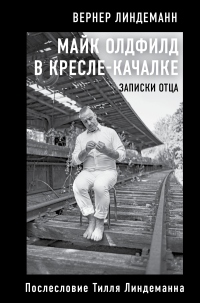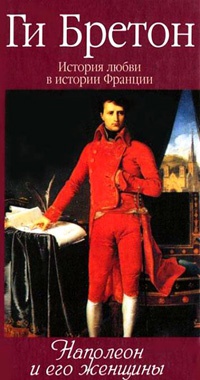Книга Прожившая дважды - Ольга Аросева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После ужина, гуляя на балконе, Вяча говорил со мной. Он действительно исключительно благородный человек.
Опять под меня — через жену — ведут подкоп. Я знаю, кто ведет и откуда, но пока Вяче этого не говорю. Огорошу, если надо будет, потом. Но о том, что есть кто-то, кто заинтересован в порядке мести дискредитировать меня, — я Молотову сказал.
Мне очень жаль Геру, что о ней распространяют небылицы и даже намерены создать дело.
Опять-таки ее и моя открытость и откровенность дают обильную пищу интриганам. С этой точки зрения ее отец приехал в неподходящее время (прости Гера), и швейцарку, неизвестную нам, мы выписали не по сезону. Поэтому не надо удерживать ее отца, если он соберется скоро уезжать, а швейцарку как можно скорее отправить восвояси.
На эти темы говорил с Герой. Она опять обозвала меня парикмахером и слышать не хочет об опасности, какая угрожает мне, ей и особенно сыну, если он останется без нее или меня или если придется ехать всем в места не столь отдаленные. После моих очень осторожных, но настойчивых подчеркиваний, она, кажется, поняла опасность. Но далеко не реально, не вполне.
Поехали с сыном и ее отцом осматривать Звенигород. Старинный монастырь, гнездо зарождавшегося, но недозревшего русского феодализма.
Разговор с Вячей стоит перед глазами темной тучей. Писать? Koмy? Сталину? На что ссылаться, на что опираться? Пойти к «Малинке»[203], но я у него был, черт возьми, совершенно зря по поводу швейцарки. Только подлил масла в огонь, теперь надо дело исправлять. Позвоню и отдельно напишу Сталину.
19 июля
Работа. Беспокойство. Звонил Ежову. Обещал принять 20.07.
20 июля
Звонил секретарям Ежова. Обещал принять.
21 июля
Беседа с Ангаровым[204]. На заседании Президиума Союза сов. писателей. Выступали со стихами он и она — оба поэты из концлагеря «Москва — Волга». Он — уголовник, она — контрреволюционерка. Оба молодые (27, 25 лет). В особенности много следов пережитого на ее лице и в ее голосе, негромком и похожем на стук внутри сгнившего дерева. Их приняли в Союз. Отчетливо говорил Ставский[205]. Он вождь, у него пузо и старание не говорить банально. Всеволод Иванов говорил о работе с молодыми. Он переполнен страстью к литературе. Пильняк — настоящий писатель, с озорством, всегда.
21 июля (продолжение)
Письмо т. Сталину (черновик)
«Дорогой Иосиф Виссарионович,
позвольте искренне и горячо Вас приветствовать и обратиться к Вам — может быть, в последний раз — со всей откровенностью, к какой меня обязывает, с одной стороны, исключительное уважение к Вам как к учителю и вдохновителю, а с другой — то душевное состояние, которое меня страшно угнетает как старого и никогда не колебавшегося большевика, при этом когда в жизни пройдено больше, чем осталось пройти.
Я хочу работать более напряженно и более ответственно для строящегося под Вашей рукой социализма.
ВОКС я выбирал сам, но как пересадочную станцию, чтоб возвратиться в ту область, где работал раньше.
С большой бы охотой и воодушевлением я взял бы и другую ответственную работу — Наркомпроса, например.
Работа, порученная мне, Бухарину и Адоратскому в Париже, насколько могу судить по последним сведениям, увенчивается успехом, если не при нас, но вследствие наших усилий и тех связей, какими я располагал. (Пользуясь ими, я же и установил, у кого именно архив Маркса — Энгельса.)
Душевное состояние мое тяжелое вследствие холодности и даже недоверия, какие дают себя чувствовать.
Если я что-нибудь сделал не так, то есть два способа поступить со мной: или научить, поднять, нагрузить ответственностью и воодушевлением широкой работы, или отбросить и предоставить самому искать путей жизни среди мира дальнего.
Я прожил почти полсотни лет. Все отдал революции. Даже свою мать, которую в Казани расстреляли белые, и теперь, естественно, хочу работать и могу плодотворно. Если Вы… позволите мне стать в тесный ряд с теми, кто близко, вместе с Вами, к древку красного знамени — то буду делать то, что поручите. Если считаете, что лучше предоставить меня самому себе, то тогда прошу освободить меня от всех моих дел. Я с головой уйду в писательство и театральное искусство. Сейчас у меня написано два романа: первый „Весна“, где рисуется то, как наше поколение пришло к революционной работе и образовало мост между поколением 1905 года и поколением Октября. Это период жизни и работы партии с 1905 no 1913 годы. Второй роман, „Лето“, — это период питерской „Правды“, провокатор Малиновский, баррикады в Питере и война. Сейчас пишу третий — „Осень“. Это Октябрьская революция — до смерти Ленина.
В перспективе у меня и четвертый — „Зима“ — это работа нашей партии над экономическим строительством социализма под Вашим руководством, отпадение элементов, фактически чуждых нам, интересующихся больше процессом революции, чем ее результатами. Троцкисты, зиновьевцы и пр.
Романы историко-психологические.
Передо мной серьезное распутье. Не распутье карьеры, а распутье деятельности».
31 июля
Письмо т. Ворошилову.
«Дорогой Климент Ефремович,
в этом письме нет ни тени прикрас или неискренности. Думаю, у каждого человека наступает когда-нибудь потребность высказаться о своем наболевшем в работе и жизни очень правдиво кому-нибудь, кого особенно человек уважает.
С твоей стороны, и только с твоей, я встречал всегда глубокое понимание и, что главное, разумную человеческую доброту. Это не только мое личное впечатление, а всех тех, кто прямо, да даже и тех, кто косвенно соприкасался с тобой. Поэтому привязанность к тебе народа и моя проникнута особой глубокой личной симпатией.
Вследствие этого мне и легко, и одновременно нелегко обращаться к тебе. Легко потому, что знаю — каждое мое слово упадет на добрую почву, встретит добрую волю с твоей стороны, а нелегко потому, что такие обращения к такому человеку делаются лишь раз в жизни.
Существо моего дела в том, что я хочу много и хорошо работать для торжества наших идей».
Вследствие сложных исторических обстоятельств жизнь в нашей стране стала такой, что 90 % душевных движений и переживаний люди загоняют внутрь и не решаются в полной мере откровенно беседовать даже сами с собой (между прочим, этим объясняется мой дневник, как и дневники многих). Только очень маленький участочек души каждого доступен всеобщему обозрению и проверке. Огромные души загнаны внутрь, посажены или на цепь, или во внутреннюю тюрьму, и только очень немногие осмеливаются в тиши вечеров и ночей скапливаться чернильными капельками на концах перьев и вырисовываться в слова на страницах дневников. Поэтому только такие дневники, а не внешнее бряцание могут рассказать о настоящих переживаниях человека.