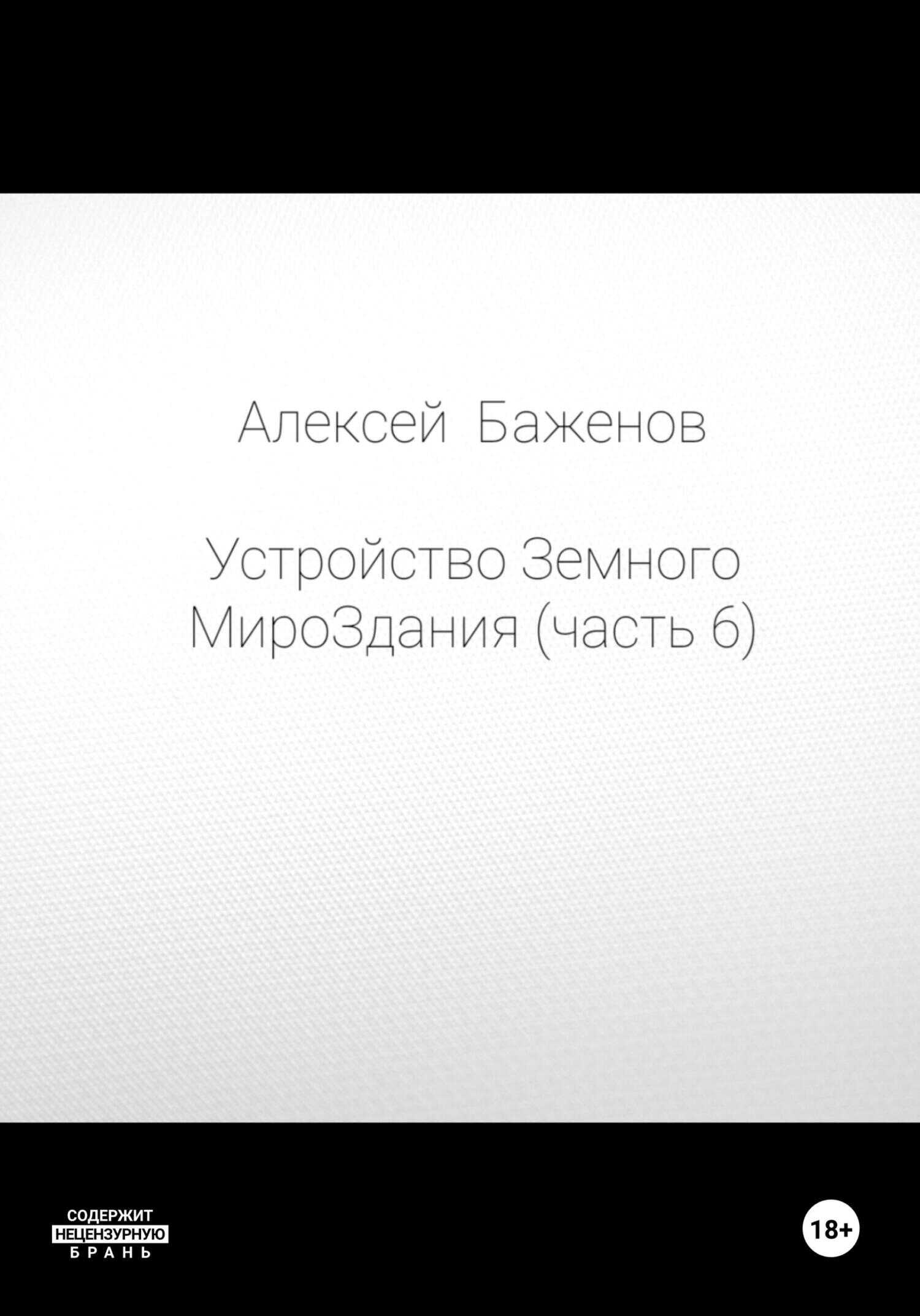Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как десятилетним пацанятам потратить тайные деньги в социалистической Москве середины семидесятых годов? Вопрос оказался не из простых. Мы все были домашними мальчиками, жизнь наша протекала так или иначе на виду у наших родителей, да, собственно, и сама социалистическая Москва того времени не предоставляла особых возможностей.
В основном мы просто бесцельно ездили по городу на такси. Тогда быть домашними детьми означало нечто иное, чем теперь. Мы могли самостоятельно тусоваться по всей Москве, это считалось вполне нормальным. Таксисты спокойно возили детей без родителей – сейчас это вряд ли возможно. Иногда мы шлялись по ресторанам – пускали нас только в дневное время, алкоголя не наливали, но все же кормили, если нам удавалось всунуть деньги швейцару или метрдотелю. Мы сидели там с нашими приятельницами, пили лимонад, ели заливное и пирожки и хихикали как полные дураки. Видимо, предполагалось, что мы в этой ситуации должны чувствовать и вести себя как взрослые, но у нас это плохо получалось. Меня лично вообще не прикалывало корчить из себя взрослого – меня вполне устраивал статус ребенка. Но все равно мне нравилось изображать из себя эдакого Остапа Бендера, крутого авантюриста. Я уже говорил о расщепленных героях семидесятых, которые всегда казались чем-то иным, не тем, чем являлись на самом деле. Героем номер один в этой гирлянде всегда оставался Штирлиц, шпион-разведчик, поддельный эсэсовец.
Соревноваться с ним в популярности мог только Остап Бендер, авантюрист и неунывающий обманщик. Вся страна тогда пела песню из этого фильма, упоительный гимн авантюризма:
Замрите, ангелы, смотрите – я играю
Разбор моих грехов
Оставьте до поры
И оцените
Красоту игры…
Когда-то, в конце двадцатых годов двадцатого века, Ильф и Петров придумали этого гениального персонажа, и с тех пор все русскоязычные существа обожают его. Бендер – одинокий частник, выглядящий пусть и обаятельным, но все же обреченным и жалким на фоне сплоченного общества, охваченного коммунистическим энтузиазмом. Все стремятся к коммунизму, а он стремится в Рио, где все ходят в белых штанах. В Бразилию, где много диких обезьян (популярная фразочка из еще одного культового фильма семидесятых). Таким задумывался Бендер, но в описываемые мной брежневские времена советское общество уже не верило в коммунистические идеалы (даже не то чтобы не верило, а просто эти идеалы всем надоели, вышли из моды), и Бендер из отщепенца превратился в распространенный социальный тип. В начале девяностых Бендер окончательно восторжествовал, из симпатичного неудачника трансформировался в эталон преуспевающего человека. Настало время великих комбинаторов. Все надели белые штаны и ломанулись в Рио – ну или в Гоа, что в данном контексте почти одно и то же. Сейчас Бендер снова не в моде, все захотели быть честными и ответственными членами гражданского общества.
Все, как вылупленные комсомольцы двадцатых годов двадцатого века, бичуют коррупцию, борются с моральными изъянами, соблюдают новую этику – короче, маются прекраснодушной неототалитарной хуетой нового коллективизма. Выглядит это настолько омерзительно, что думаешь, глядя на этот подъем высокоморального говна: нет, уж лучше прощелыга Бендер в белых штанах!
Сидя в этих опустошенных ресторанах (там, как правило, не было посетителей в эти дневные перламутровые часы), сидя в детских компаниях, взирая на смеющиеся губы девочек, глядя на узкие перламутровые часы на смуглом запястье одной из них, надкусывая холодный аскетический пирожок, делая глоток приторного и пузырящегося напитка «Буратино», я погружался в блаженную бурую тину своих мыслей, я прикасался к зеленой ряске своих болотистых соображений – большой лотос расцветал на поверхности болот, и девочки в зеленых рясах водили вокруг него радостный хоровод, легко переступая босыми ногами с одного бархатистого листа на другой. Я думал о животных, о своей безграничной любви к этим нечеловеческим телам, к настороженным ушам, к панцирям и шубам тех особей, что всецело посвятили себя летаргическому уюту. В качестве коллекционера я владел блистательным зоопарком: животные, изображенные на почтовых марках, животные и птицы, чьи выпуклые образы я мог лицезреть на поверхности экзотических монет, – эти микроскопические барельефы иногда бывали так поразительно отчетливы, что можно было рассмотреть каждую ворсинку на загривке ондатра, каждое перо в оперении пеликана, каждую чешуйку на панцире броненосца, – такую отчетливость может предоставить жаждущему оку гравюра на стали или же умелая чеканка по серебру и меди. Слово «четкость» означает исчисляемость: то состояние явленного, когда ты можешь пересчитать все элементы, из которых это явленное состоит. Помимо монет, я обладал также невероятным количеством бумажных ассигнаций разных стран с изображениями животных. И на этих ассигнациях каждое животное представало в двух воплощениях: одно из воплощений было графическим, гравированным, другое же являлось моему зрению, когда я смотрел ассигнацию на просвет, – тогда представало передо мной как бы астральное тело того зверя или птицы, которых я только что рассматривал в образе гравюры. Не только лишь водоплавающие и земноводные превращались в водяные знаки, но и все прочие представители флоры и фауны, включая королей, президентов, ученых, композиторов, а также прекрасных дев, олицетворяющих ту или иную страну. И каждый советский алкоголик, ставший счастливым обладателем красного червонца, мог насладиться туманным профилем астрального Ленина, глянув сквозь ассигнацию на весеннее, зимнее, осеннее, летнее небо. Родное небо, чью ясность этот гипотетический алкаш, должно быть, желал поскорей затуманить посредством чаемых возлияний. Чаемых, но отнюдь не чайных и не случайных возлияний. Нам же, детям, алкоголя не наливали. Хотел добавить «к сожалению», но какие тут могут быть сожаления? Мы и так были опьянены – детством, деньгами, приключенческой аурой наших обсессий.
Я наивно полагал, что, когда стану взрослым, по-прежнему буду пылко коллекционировать монеты, старинные ключи, марки, бумажные ассигнации и необычные бутылки из цветного стекла. Но, начиная лет с двенадцати, я стал просыпаться по утрам, пробуждаемый эрекцией, – член мой не желал разделять со мной безмятежность детского сна, он будил меня своим непостижимым торчанием, как Буденный, как Будда, как будильник, как будетлянин. Он пробуждал меня к иной жизни, к иным вожделениям… И, вскоре после того, как начались эти эрекционные побудки, я стал терять интерес к своим коллекциям. Я перестал ездить на нумизматические и филателистические толкучки в музее Тимирязева и в других точках Москвы. Мне внезапно показались невероятно скучными эти тусовки, где люди с пылающими от алчности глазами показывали друг другу небольшие альбомы с марками и монетами, и все они так пристально, жадно, по-охотничьи всматривались во что-то маленькое и неживое, всматривались в лица металлических дисков и в