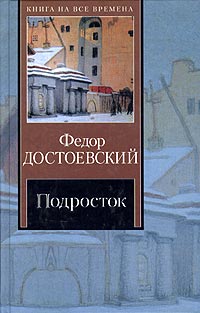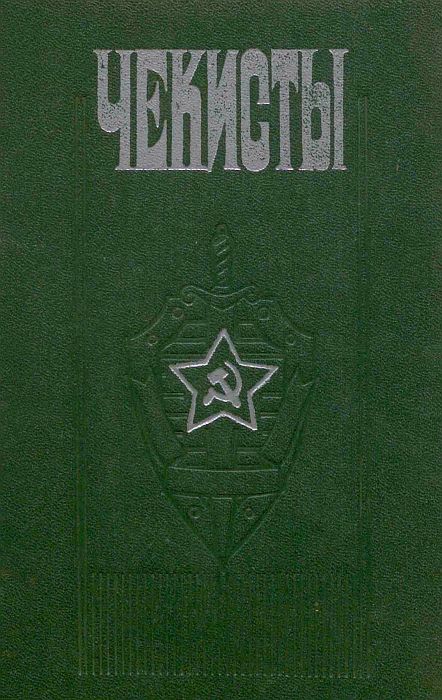Книга «И в остроге молись Богу…» Классическая и современная проза о тюрьме и вере - Пётр Филиппович Якубович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Костя так Костя.
В лагерях бывало и так, что человек и три года сидел, и пять, и весь срок отбывал, а его имя и отчество только два-три близких соседа знали. Все остальные кличкой-погонялом обходились. Все прочие обращения, по сути, вообще невостребованными оставались. Кто же этому удивляться будет? Вовсе не принято в тех местах ничему удивляться. И Константин Усольцев не удивлялся, не задумывался, не заморачивался, как здесь говорят. Как не задумывался, что то ли пайка, то ли доза жизни, свыше ему отпущенная, уже закончилась и что пришло время собираться в тот последний, то ли заоблачный, то ли просто загробный этап. Правда, «этап» здесь слово не совсем уместное. Про тот этап, что из тюрьмы на зону или из лагеря в лагерь, всегда предупреждали: когда с вечера – чтобы к утру был готов, когда утром – чтобы к обеду успел собраться. А тут – никаких предупреждений, никаких сборов. Просто упала откуда-то из очень высокого далека команда, что улавливалась не слухом, а внутренним чутьем, и было в этой команде единственное слово – ВСЕ!
Эта самая команда с этим самым единственным словом грянула, когда Костя вышел из барака на плац покурить. Мог бы и в бараке покурить. Весь барак круглые сутки смолил, не поднимаясь со шконок, и он так всегда делал. А тут будто что внутри торкнуло – выйди, обязательно выйди!
Вышел Костя на плац, а закурить у него и не получилось – кольнуло в сердце. И в двадцать так бывало, и в тридцать, а уж после сорока на подобные пустяки и внимания не обращал. Понимал, что тут и вся выпитая водочка аукается, и весь употребленный чифир привет передает. Сердце – оно и есть сердце. «Покалывать ему просто положено, чтобы о своем наличии-присутствии давать знать», – всегда незатейливо рассуждал в подобных случаях Костя. И всегда ведь отпускало.
В тот раз кольнуло и не отпустило. Будто кто-то холодный и тяжелый штырь одним молниеносным ударом вогнал в левую сторону груди и держит его там, не вытаскивая и не поворачивая. А в висках ранее нутром услышанная команда затараторила: ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
Понимал Костя, что умирает, а ни страха, ни горечи в этот момент не испытывал. Где-то он читал или от кого-то слышал, будто в подобные моменты перед человеком в считаные мгновения вся жизнь проходит, будто кто с бешеной скоростью кино, про него снятое, прокручивает. «Вот, – удивлялся Костя, – кольнуть-то – кольнуло, крепко кольнуло, наверное, умираю…»
А кино это не прокручивают, словно сеанс отменили.
Впрочем, про кино это он только мельком, краешком памяти вспомнил, а на передний план в этой самой памяти какие-то несуразные пустяки полезли. Вспомнил, что блок фильтровых сигарет Кирюхе Белому с пятого барака он так и не вернул (нехорошо после себя долги оставлять). Еще вспомнил, что бельишко на нем, того, не совсем свежее. Опять нехорошо, ведь принято дела земные в чистом исподнем завершать. Должны были вчера в баню вести, пятница – помывочный день для его отряда, а вода горячая отключилась – перенесли помывку с пятницы на понедельник. От всего этого что-то похожее на беспокойство внутри мелькнуло. Правда, беспокойство это было тихое, легкое и какое-то совсем неблизкое.
Зато вспомнил то ли представил, со всей пронзительной отчетливостью, что на сегодняшний день ни в России, ни на Украине – две страны, между которыми плескала его судьба последние тридцать лет, – ни близких, ни родственников у него нет. Оно вроде и грустно, а с другой стороны – очень даже хорошо: никому никаких огорчений, никому никаких хлопот. Последнее слово в нынешних условиях особый смысл имело. Труп из зоны забрать – дело хлопотное: и бумаг массу собирать надо, и по чиновничьим кабинетам ходить, подписи собирать. Мало не покажется. Ну и хорошо, и слава Богу, что один…
Только и успел Костя ухватиться за волейбольную стойку, но ухватился как-то неуклюже, со стороны казалось: то ли пьяный столб обнимает, то ли человеку в черной телогрейке приспичило малую нужду посреди лагерного плаца справлять. Оказался рядом Серега Армян, заготовщик со второго отряда. Присмотрелся, ближе подошел: «Ты чего, Костя?» «Уйди», – только и выдохнул Костя, а сам стойку все крепче обнимал и по ней все ниже сползал.
Еще раз вспомнил он про расхожее мнение, будто перед смертью вся прожитая жизнь перед умирающим пролетает, и снова с грустным удивлением отметил: «Вот помираю, а кино все так и не крутят». Словно огорчившись за отмененный сеанс, сам попытался вспомнить прожитое. Только не складывалось. Наугад выдернулись из этого прожитого две не связанные между собой ни временем, ни смыслом картинки.
Первая – как мать его в тазу моет. Лет ему совсем немного, не более трех, потому что помещается он полностью в небольшом тазу, а таз этот стоит на двух табуретках, что одна на одну поставлены. «С гуся вода, с Кости худоба», – приговаривает мать и поливает его из алюминиевого ковшика теплой, ласковой водой, от которой телу и щекотно, и приятно.
Моет его мать, а из-за перегородки музыка доносится, хотя и не музыка это еще, а набор звуков: скрипы надрывные вперемешку со всхлипами и повизгиванием. Это брат, что старше его на пять лет, скрипку мучает. Да нет, все-таки, наверное, не мучает, а уже играет, потому что инструмент этот вскорости стал его профессией, делом его жизни. Училище, потом консерватория, потом концерты, гастроли. Правда, обо всем этом Костя только потом и как-то урывками узнавал, а последние пятнадцать лет между ним и братом и вовсе пустота, молчание, неизвестность. Писал он пару раз – письма возвращались со штампом «адресат выбыл». Верно, вспоминал Костя брата, но больше из-за любопытства (жив ли, нет, как жизнь сложилась, как родительским домом распорядился), да и практический интерес присутствовал (вот бы посылочку к Новому году сварганил, да и перевод на нужды насущные не помешал бы). А последние годы и не вспоминал, как-то не складывалось, что-то не находилось места для брата