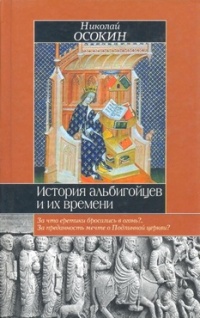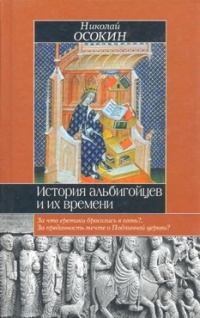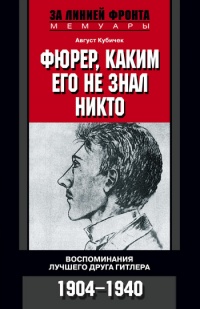Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мы наблюдали все это, не отрываясь, пока не заметили пароход «Сочи», на который гуськовый кран перетаскивал контейнеры. Именно «Сочи» нам и был нужен. Дежуривший у трапа помощник капитана изучил документы и велел подождать под навесом. Служащие из советского консульства, а также местные, бельгийские, обещали прибыть за полтора часа до отправления. С Шельды и недальнего моря задувало, поэтому мы скрылись под навес и какое-то время топали там ногами, разглядывали старый плакат трансатлантических линий, играли в догонялки, втайне замирая, когда видели очередного человека в униформе: вдруг погоня все же настигла нас? Может, лучше остаться, Анне развестись с мужем и нам уехать в Мец и начать жить по-новому? «Все, все, — повторяла Анна, — раз мы решили, то бежим. Ты же сам говорил: детей отнимут даже во Франции. Даже самый дорогой адвокат нас не спасет». Я закрыл глаза и кивнул.
Должностные лица явились и взобрались по трапу на борт. Помощник сказал, что должно прибыть еще несколько репатриантов, и надо подождать. Наконец нас позвали. Преодолев трап, мы увидели два стола, один с советским чиновником и другой с местным. Еще раз посмотрев наши документы, бельгиец отдал их советскому.
Тот забрал бумажки себе, сверился с каким-то списком, взял франки, выдал наличные, чеки и удостоверения репатриантов с вклеенными в них фотокарточками. После этого матрос взял чемодан Анны и повел нас в каюту, по пути разъясняя корабельные порядки.
Разместившись кое-как в узком пенале, мы нашли белье и застелили детям койки, и я выглянул в иллюминатор. За стеклом покачивались камыши и полоска песка на другом берегу Шельды. Далее колыхались равнины желтой сухой травы. Погоня опоздала, а может, за нами никто не гнался. Раздался гудок, Анна склонила голову мне на плечо, и так мы вышли в осеннее море.
Следователь вынул из папки анкету и положил ее на стол рядом с опросным листом. Некоторое время он сверял написанное, водил карандашом по строчкам, что-то отчеркивал и в конце концов посмотрел на меня. Затем улыбнулся. Я улыбался в ответ, помня, что все пункты заполнил одинаково что в Антверпене, что полчаса назад, употребив лишь кое-где разные слова. Но под сердцем, конечно, нестерпимо ныло: например, в строке «Социальное происхождение, род занятий родителей» стояло «сторож совхоза, домохозяйка», и если они поднимали для проверки дело отца, то сейчас должны были об этом спросить. Еще больше пугало «В каких лагерях военнопленных были» — я продлил себе срок в Сувалках на полгода, затем поместил себя сразу в Каунас, что выглядело правдоподобно, так как между этими городами было около ста километров; но если они все же достали документы народной армии, то должны задержать меня для выяснения обстоятельств. Конечно, в листе был и вопрос о службе в армии противника, но, к счастью, в формулировке не упоминались национальные формирования, чего я боялся, и поэтому, отвечая «нет», я не врал. Также я надеялся, что если наша народническая эпопея вскроется, то меня как non-combattant определят под надзор или дадут штраф или, может быть, даже условный срок, но все-таки не отправят в Сибирь. В вопросе о репрессиях со стороны немцев я поставил прочерк и об истории с эсэсовцем и допросом Каратовского промолчал. Как лица, способные подтвердить обстоятельства моего плена и пребывания в каунасских фортах, в листе оказались Костя и Полуект, а для Нацвейлера — Радченко и Никулин. Насчет Сувалок я колебался — не писать никого или написать врача Федорова, — и все-таки написал, что все, кого я знал по фамилии, погибли.
«Сергей Дмитриевич, — выдержав паузу, сказал следователь, свойства которого я быстро забыл, он был свежий, бритый, в его глазах не было ничего, ни страха, ни ярости, ни даже цепкости. — Вы указали, что совершили побег в конце июня сорок четвертого года в окрестностях города Лонгви и через несколько дней с помощью местных жителей нашли убежище в поселке Профондевиль. То есть это был уже июль. В то время в данном районе Бельгии действовало несколько советских партизанских отрядов. Вот, например, группа Зубарева. Или бригада подполковника Шукшина. Вы что-то слышали о них? Разве местные жители не предлагали вам к ним присоединиться?» Я помотал головой и почему-то вспомнил, что, когда меня фотографировали и брали отпечатки пальцев, все сотрудники молчали. «Да? А ведь много наших беглых военнопленных там сражалось и полегло… Ну, допустим. А почему вы так долго жили в Шарлеруа? В этом городе был фильтрпункт под контролем американцев. Почему вы не вернулись раньше?» Вздохнув, я все объяснил про страх наказания за плен, затем про Анну и про родных. Майор долго уточнял даты, расспрашивал о Леоне и его друзьях и невзначай заметил: «Если бы вы, Сергей Дмитриевич, явились на встречу с советской миссией, оказались бы дома еще четыре года назад и увидели бы своих родных. Кто знает, что с ними случилось за это время».
Под сердце вонзилась тонкая игла. Мышцы мои омертвели, и я понял, что прямо сейчас упаду. «Что с ними? Вы знаете?» Майор не заметил моей agitation и закинул ногу на ногу: «Нет, это не входит в мои обязанности. Вот пропуск в соседнее крыло, вам нужен кабинет…» Минута скрипа пером, и я, все еще держась за грудь и не веря, что прошел испытание, выплелся из комнаты. В другом крыле оказался отдел, который изготавливал временные документы. Анна с детьми уже ждали меня со всеми необходимыми справками для паспорта, прописки и учета. Мои документы готовили медленнее, и мы сидели, склонившись друг к другу, и шептались о том, что, кажется, нас отфильтровали и, наверное, все прошло так легко, потому что война давно кончилась, и пусть тот, кто посадил наших отцов, еще предводительствует, но, вероятно, ему не надо больше искать врагов, и началась более-менее новая жизнь, и самая опасная часть пути позади.
Вопреки опасениям, морская болезнь не сразила ни детей, ни нас, и мы путешествовали счастливо. Особенно приятным казалось, что всех четверых считали семьей и я мог не стесняясь обнимать и целовать Анну. Тревоги на время исчезли. Кроме нас, на «Сочи» возвращались девять репатриантов — все шахтеры, украинцы, лишившиеся работы оттого, что план Маршалла уронил цены на бельгийский уголь и многие шахты сократили добычу или вовсе закрылись. На палубу мы почти не выходили, так как море волновалось, да и что мы там забыли — мы лежали в каюте и разговаривали или изучали с детьми все гулкие, гудящие, пахнущие машинным маслом и пугающе громкие закоулки парохода. Последнюю часть пути «Сочи» шел по узкому заливу между заснеженных сопок. Матросы бросили на пристань трап, и мы спустились по нему прямо в объятия граждан в серых шинелях. В мою память впечаталось погребальным слепком лицо первого из них, проверяющего паспорта. Он был похож на римского легионера из военной энциклопедии, с горбатым носом и маленькими глазками, и, когда он крикнул что-то товарищу, его голос оказался неожиданно слабым и высоким. Но это не главное; главное, что от него дохнуло ненавистью и желанием безнаказанно властвовать над выгружаемыми подобно лендлизной тушенке и «виллисам» человеками, и внутри у меня что-то оборвалось. Прочие были вежливее и без разговоров доставили нас в фильтрпункт при мурманском МВД. Зеваки на пристани смотрели с любопытством и укоризной. Меж ними крутился журналист из радио. Он появился еще раз, когда мы со справками на место жительства вышли из конторы, и шагал рядом несколько кварталов, и убеждал выступить с монологом блудного сына в какой-то их передаче. Я отказался.