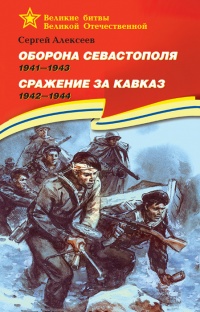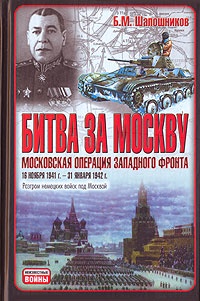Книга Битва за Кавказ - Анатолий Корольченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Это разведчики, мои боевые товарищи, — ответил дед. — Вот я, это солдат Митькин, а рядом Турсунов. А сержант с усами — это наш командир Литовченко...
— Папа тёти Кати?
— Он самый.
Костька осторожно взял медаль и стал внимательно разглядывать её.
— А можно её почистить?
— Можно, внучек.
Достав тряпочку, мальчик старательно начал чистить медаль. Он долго тёр её и всё думал о разведчиках, которые утащили зловещего фрица.
На серебряной поверхности медали сверкнул острый лучик, она заискрилась, заиграла, и в её сиянии Костьке представилось рыжеусое лицо сержанта Литовченко — строгое и немного грустное. И ещё представилось лицо деда с густой сеткой морщин у глаз. Но дед виделся ему не таким, каким он был вчера и позавчера, а большим и очень сильным, потому что не каждый заслужил в бою такую награду.
БИТЫЙ КОЗЫРЬ
В конце июля в неприметном абхазском селении появились моряки. Их было немного, и прибыли они из Севастополя, точнее — с мыса Херсонес, где происходили последние бои за Крым. Они лихо распевали в строю:
Капитан Орлов был их командиром, а особого назначения отряд подчинялся начальнику авиации Черноморского флота.
Боевое крещение воины получили уже летом 1941 года, защищая Одессу. Тогда они десантировались в тыл румынской дивизии. В течение нескольких дней они навели там «шороху», нанося врагу немалые потери и сея панику.
По возвращении парней наградили боевыми орденами Красного Знамени, а Михаила Негребу — орденом Ленина. Это был тот самый десантник, герой широко известной повести Леонида Соболева «Батальон четверых», присказка которого облетела весь фронт: «Один моряк — моряк, два — взвод, три — рота, нас же четверо, а потому нас батальон». Слова принадлежали Михаилу Негребе. Четверо они во вражеском тылу действовали за батальон.
В мае их отряд располагался в Новороссийске, когда сыграли тревогу. Моряков посадили на крейсер «Красный Кавказ», идущий в Севастополь. Приказали иметь с собой парашюты.
— Снова в тыл, — подал голос Негреба.
— Куда пошлют, туда и пойдём, — ответил командир роты старший лейтенант Валериан Квариани, отменный спортсмен и человек олимпийского спокойствия.
В конце июня немецким частям удалось оттеснить от Севастополя наши части. Отряд десантников отступал в числе последних, прикрывая отход к мысу Херсонес покидающих город женщин, детей, стариков. На мысе находились каменные разработки и штольни, в которых можно было укрыться от артиллерии и авиации противника.
В последние дни июня рота старшего лейтенанта Квариани заняла оборону в восьми километрах от Севастополя, у широкой балки Юхарина. Там пролегала дорога на Балаклаву, неподалёку виднелись кресты и обелиски английского кладбища, возникшего ещё в Крымскую войну. Севастополь был за ними. Над городом висело пепельно-чёрное облако, в котором хищно метались огромные языки пожаров. Оттуда в минуты затишья доносились тревожный гул и тяжёлые взрывы.
В тылу защитников был клочок земли со взлётной полосой и тремя бухточками для посадки людей на суда.
Едва забрезжил рассвет, как со стороны моря показались немецкие самолёты. Колеса бомбардировщиков, широко расставленные друг от друга, прикрытые бронещитками, словно были обуты в лапти. Самолёты так и называли — «лапти».
С устрашающим воем они срывались в пике, стремительно неслись к цели, напоминая высмотревшего жертву стервятника, и, сбросив бомбы, круто взмывали у самой земли. Эскадрильи сменяли одна другую, и казалось, этому не будет конца. Вой самолётов и свист бомб, грохот взрывов и пальба зениток, треск пулемётов и крики людей — всё сливалось в адский оглушительный хаос.
Потом самолёты улетали и в дело вступали артиллерия и миномёты. Землю рвали взрывы, секли осколки, сокрушая и уничтожая всё, что находилось подле. И шли танки, а с ними автоматчики.
Участник тех боев Виктор Евгеньевич Гурин так рассказывал о боях на Херсонесе:
— В ворвавшиеся танки летели бутылки с зажигательной смесью. Петру Судаку удалось поджечь один танк. С пылающей кормой тот ушёл вглубь нашей обороны. За танками шагала цепь автоматчиков. Послышалась команда нашего ротного Квариани. Он первым выскочил из траншеи, за ним поспешили мы.
Гурин помнил того немца, который шёл на него. Он почему-то ударил его не штыком винтовки, а прикладом. Навсегда остался в памяти чёрный рот с белыми зубами, вылезшие из орбит глаза. Дальше в памяти был провал...
В тот день их атаковали трижды. Под вечер немцев сменили румыны. Они шли в шортах, в лёгких с короткими рукавами рубахах, на голове — шляпа с пером. Их не допустили даже до траншеи.
В конце дня снова появились самолёты, бомбили и бросали листовки. В них писали, что сопротивление бессмысленно, что у немецких войск полнейшее преимущество и красноармейцам остаётся одно: ночью добровольно перейти линию фронта и сдаться. Их жизнь и благополучие гарантированы.
— Хрен тебе маковый, а не плен, — рвали листовки воины.
И следующий день был таким же долгим и тяжёлым. Нещадно палило солнце. Лица у всех потемнели, обострились. Мучила жажда. Чтобы набрать воды из бьющих в расселинах у моря родничков, приходилось спускаться с кручи по канату, а потом, напившись и нацедив флягу, с величайшим трудом подниматься.
Но ещё более мучил отравленный от разложившихся трупов воздух. Он одурманивал, выворачивал всего, от него не было спасения. Трупы лежали повсюду: и наши и немецкие. Особенно много их было в нейтральной, насквозь простреливаемой полосе. До них невозможно было добраться.
На третий день над немецкими окопами появились белые флаги. Стрельба стихла. Пришли немецкие врачи в халатах, предложили на два часа прекратить огонь, чтобы убрать трупы. Наше командование не стало возражать, но выдвинуло условие, чтобы скрывающемуся в штольнях мирному населению позволили возвратиться в Севастополь. Немцы ответили согласием.
В течение двух часов трупы убрали, колонна женщин, детей и стариков направилась к городу. Оставшиеся провожали их взглядами, пока колонна не скрылась с глаз.
И опять загрохотало...
30 июня на полевой аэродром Херсонеса приземлились двенадцать транспортных самолётов «Дуглас». Не глуша моторов, лётчики спешно принимали раненых, втаскивали их по короткой лестнице-стремянке.
— Двадцать один... двадцать два... двадцать три. Всё! Больше нельзя, не взлетим!
Лестница убиралась, дверь захлопывалась, и самолёт тут же выкатывал на взлётную полосу и брал разбег. На бреющем полёте, почти касаясь воды, уходили подальше от земли, от опасности И уже там, в море, ложился на курс — на Новороссийск.