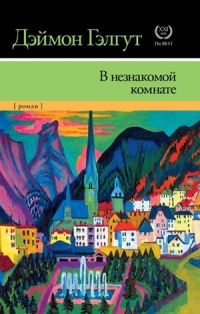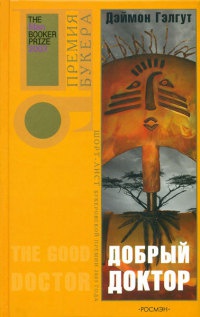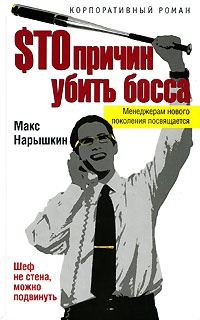Книга Арктическое лето - Дэймон Гэлгут
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ты шантажировал их?
– Да, когда был моложе. Но по какой-то причине я начал представлять себя на месте этих людей. И я сказал себе – тебе бы не понравиться, если бы такие вещи делать тебе. И я прекратил.
Морган не мог понять, во сне ли он пребывает, наяву ли. Но, как ни странно, не чувствовал ревности.
Наконец он спросил:
– Тогда почему ты не хочешь со мной?..
Мохаммед отвернулся и сказал тихим голосом:
– О, Форстер, Форстер! Разве ты не понимаешь?
Потом помолчал и продолжил:
– Хочу задать тебе один вопрос. Ты когда-нибудь думать о том, что твое желание заставит тебя познакомиться с трамвайным кондуктором? И разве тебе не кажется это плохо и позорно? Пока отвечать на мой вопрос, ты не должен смотреть на меня.
Морган отвернулся. Наконец он все понял. Мохаммед питал к нему истинное уважение и, вероятно, считал, что физические желания унижают его.
Они лежали рядом, глядя в разные стороны.
– То, что ты трамвайный кондуктор, не имеет для меня никакого значения, – сказал Морган.
– Я нравлюсь тебе потому, что я такой молодой?
– Ты мне нравишься потому, что ты Мохаммед.
* * *
Морган не предавался самообману. Мохаммед не принадлежал к меньшинству, но был открыт самой возможности однополого романа настолько, что сравниться с ним не мог бы ни один из англичан. Но ведь и сам Морган, хотя и обсуждал со своим другом пока лишь вопросы жизни тела, вряд ли испытывал безразличие к романтической стороне отношений. С того самого первого дня в Доме Печали он гораздо острее вспоминал не свое возбуждение, а нежное чувство прикосновения руки Мохаммеда к своей голове в тот момент, когда они мягко опустились на кровать. И действительно, грезя о Мохаммеде, он вспомнил не столько собственные физические желания, которые оставались для него вопросом без ответа, сколько объятия, ласки и поцелуи.
Только теперь Морган понял, что между ними установилось настоящее равенство. Раньше они лишь играли в то, что они равны, крича друг другу через разделявшую их пропасть, что никакой пропасти не существует. Но теперь буквально через кожу своего египетского друга Морган начал понимать, что есть на самом деле египетский мир, совсем непохожий на тот, в котором жил сам. Пока еще очень отдаленно, несовершенно, но осознал, что это значит – быть египтянином, работающим под началом англичан, а также испытывать ярость и унижение, неизбежные при таком положении. Когда пьяный старший сержант английской армии ударил Мохаммеда в челюсть, а взбешенный офицер хлестнул стеком по ноге, Морган почувствовал эти удары своей кожей. И его выводила из себя зарплата, которую получал Мохаммед, – всего-навсего два шиллинга в день, сумма, на которую едва можно было протянуть. А продолжительность рабочего дня, не оставляющая почти никакого времени для отдыха и развлечений!
– И я всегда в плохом настроении, – говорил Мохаммед, – что плохо для моего здоровья.
Несмотря на все это, Мохаммед относился к себе без малейшего снисхождения, и Морган, выходило, жалел его гораздо больше. Но он мало что мог поведать. В конце концов время стояло военное, и это была не Англия, где у Моргана нашлись бы и друзья, и широкие возможности.
В отчаянии Морган послал Мохаммеда с письмом к даме, заправлявшей правительственным бюро по найму. В тот момент ей нечего было предложить, но дама написала Моргану о том, как ей понравился Мохаммед, и что вскоре она даст ему должность клерка с зарплатой в целых пять шиллингов в день!
– Когда твой доход увеличится, – сказал ему Морган, – вырастут и твои желания.
– Иметь желания значит понимать жизнь.
– Это плохая мысль, хотя и верная.
Но с работой в должности клерка ничего не вышло, и Морган продолжал печалиться по поводу стесненных обстоятельств Мохаммеда. Чем ближе он узнавал молодого человека, тем более скудным казался ему его гардероб и более ограниченными перспективы. К нынешнему моменту Морган остро чувствовал разницу в их положении и не видел никакой возможности залатать эту брешь. Каприз судьбы, и ничего больше – и Мохаммед всегда будет бедным необразованным трамвайным кондуктором, а Морган – благополучным, сытым джентльменом без мозолей на руках. Он бы изменил такое положение вещей, если бы мог, но пока единственным, что ему оставалось, было использовать связи.
То есть вновь прибегнуть к помощи Фернесса. После их последнего разговора Морган не хотел вновь обращаться к Робину, но не видел иного выхода.
– Тот молодой человек, о котором я говорил в прошлый раз, – объяснял Морган. – Который работает на трамвае…
– Снова он? Я думал, ты больше не видишься с ним. Что он натворил на сей раз?
– Нет, все не так, – возразил Морган. – Он ничего плохого не сделал. Я просто хотел поинтересоваться, нет ли возможности найти ему место, работу с более высокой зарплатой.
Робин вздохнул.
– Морган, – сказал он. – Ты не прислушиваешься к голосу разума.
– А что неразумного в том, что я хочу помочь другу?
– Ничего, – ответил Робин. – Вопрос лишь в том, насколько верным является этот друг. В конце концов он местный. А я в прошлый раз пытался сказать тебе…
Он пожал своими костлявыми плечами и, всплеснув руками, произнес:
– Ты ввергнешь себя в неприятности, только и всего!
– Без сомнения. Но не из-за него. Прошу, верь мне, Робин. Я не последний дурак!
– Не уверен в этом, – покачал головой Робин, но в его неодобрительном тоне слышалась ироничная нотка. – Я поспрашиваю, и посмотрим, что можно будет сделать.
Помолчал и добавил:
– Но никаких обещаний!
* * *
За последние недели из дома пришли письма с новостями, от которых Морган не мог отмахнуться: умирала Мэйми Эйлуорд, старейшая и ближайшая подруга его матери, а тетя Лаура, сестра отца, была очень больна. Мысли о долге и обязанностях терзали Моргана. Не следует ли ему оставить Египет и вернуться на родину? Он не питал никаких иллюзий по поводу того, что это означало. Поддайся – и золотое время будет безвозвратно потеряно. Ему уже не вернуться к Мохаммеду и к тому, что между ними происходило. И этот выбор Морган должен был сделать в полном одиночестве, поскольку не мог ничего объяснить ни Лили, ни тете Лауре.
Да и кому он мог рассказать о своей любви? Он написал о ней горстке друзей, остававшихся дома, но догадывался, каким абсурдным и нелепым выглядело его письмо. Конечно, в Египте его никто бы не понял. Тем не менее то, что он влюблен, не было для него секретом. В истории с Мохаммедом не существовало особого, определяющего момента, как в случае с Масудом в Париже. Скорее он влюбился посредством Мохаммеда, в силу чего любовь стала маленьким, четко очерченным пространством в самом центре его жизни, где ничто не отбрасывало тени.