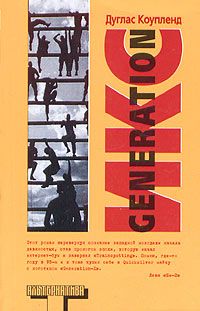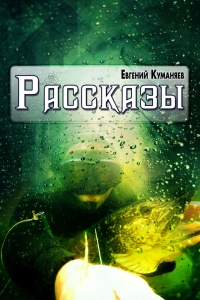Книга Белый ворон - Анджей Стасюк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На Гроховской только редкие прохожие. «Шестерка» ехала на Гоцлавек. Улица была залита мутным розоватым светом. Искры от трамвая вспыхивали, как ракеты. Возле «Мулатки» совещались двое пьяных. Потом они отправились в угловой магазин, где всегда имелось плодово-выгодное. Я свернул на Подскарбиньскую. Кинотеатр стоял пустой и темный, точь-в-точь как сквер по другую сторону улицы. Я замедлил ход. На третьем этаже за зелеными шторами горел свет. Я достал сигарету. В спичечной коробке пусто. Я постоял с минуту, крутя в пальцах последнюю обгоревшую спичку. Вернулся на Гроховскую. На автобусной остановке испуганная женщина долго рылась в сумочке, прежде чем отыскала зажигалку. Тут как раз подъехал автобус, и я едва успел мазнуть огоньком по сигарете. Я двинул в сторону Вятрачной. Под опорами был автомат. И он оказался действующий. Жетон дал мне старик, как раз закончивший разговор. Я набрал номер Василя. Он долго не поднимал трубку.
– Слушай, я могу к тебе зайти? – спросил я.
– Сейчас?
Я едва слышал его.
– Да. Я мог бы подъехать через час. По пути что-нибудь куплю. – Мимо кто-то проходил. Маленькая собачонка с визгом рванулась в мою сторону. Поводок дернул ее назад. – Повтори. Ничего не слышно. Тут шавок какой-то…
– Знаешь… сегодня нет. Мне очень жаль, извини.
Я подождал, пока он положит трубку. Он, видимо, тоже ждал, когда положу я, и затянулось это надолго.
М-да, время и впрямь пустота, но заодно и один из видов материи.
Не думаю, чтобы урок, который я получил в тот вечер, был задуман и подготовлен им. Он никогда не действовал преднамеренно, а уж желание ранить кого-то вообще было чуждо ему. Это его ранили, и, наверное, в таких случаях он страдал куда сильней, чем я в тот пустой, занюханный вечер. Василь сидел в своем поспешно сложенном из крох мирке и знал, насколько он хрупкий и ненастоящий, этот его мирок, потому что он представляет собой только лишь подобие, далекое, печальное отражение наших миров, безнадежных строений страха и отвержения.
Несколько часов моих блужданий. Какая же в них была тяжесть в сравнении с его бесконечной ходьбой по пустым комнатам, куда никто не заходил, а телефон повторял перевернутую версию нашего вечернего разговора. Часы, жертвовавшиеся от случая к случаю, минуты, в которые наши головы все равно были заняты чем-то совсем другим, той кажущейся множественностью миров, что неизменно проявляется в каждодневном совершении скучных действий, признаваемых необходимыми, обязательными для жизни, даже для спасения. До чего же мягким был щит, которым он пытался заслониться! Мягким и в то же время благородным по сравнению с нашей банальной скорлупой, в которой мы кишели, точно черви. Против нашей жизни, тупой и не задающей вопросов, он устанавливал слабые заграждения. Эти мальчишки, приходящие в сумерки и убегающие поутру, чтобы оставить его в двойной пустоте: полная пепельница, пустые бутылки из-под красного вина, проигрыватель с испорченным автостопом и стук адаптера на последней бороздке, где записана уже только тишина.
– Василь, а чего ты больше не играешь? – спросил я его как-то.
– Уже не получается, – равнодушно ответил он. Через миг я пожалел, что задал этот вопрос, потому как переставать играть он стал уже очень давно: постепенное это переставание началось, когда мы в первый раз вошли по дорожке, обсаженной серебристыми елями, в его дом. А потом каждый наш приход прерывал музыку, как вторжение шпаны прерывает бал.
Музыка стихала, отдалялась, фортепьяно превращалось в какую-то нелепую, ни к чему не пригодную мебель: даже дурацкий стакан не поставить, на полировке сразу остаются следы. А потом мы уже и на это не обращали внимания. Особенно когда умерла его мать. «Будет где устраивать гулянки, да?» Тогда-то ему и удалось все связать заново. В сущности, все еще раз начиналось заново. Время на чуть-чуть вернулось назад. Забавы наши стали несколько более изнурительными, но в каком-то смысле мы вторично в первый раз вошли в его второй дом. Только он находился несколько дальше. Трамвай, автобус, но мы ведь росли, а город, соответственно, сжимался, так что проблем никаких.
Каким чудом все это удавалось? Каким чудом мы не загнулись от алкоголя, курева и бессонницы, когда, закончив все эти сраные школы, устраивали там в трех комнатах лагерь на целые недели и месяцы? Однако наши тела все выдерживали и хотели еще. Василь прохаживался по этому побоищу как благодушный властитель и с восторгом смотрел на наше бессилие, неизменно удерживающее нас возле него. Мы выходили, приходили, временами кто-то из нас пытался установить контакт с действительностью, склонялся под материнским отчаянием, искал работу, находил, а потом бросал. Да, это была единственная в мире рабочая общага с фортепьяно в центре. Гонсер клеил афиши. Малыш мыл окна, я был курьером – самые что ни есть романтические занятия, и ни у кого мысли даже не возникало пойти по стопам отцов. Впрочем, не помню, может, это я мыл окна, а Гонсер был курьером. Да какая разница, если, кроме того, мы еще убирали вагоны, снимали по квартирам показания счетчиков, вкалывали на строительстве частных домов и костелов, ездили в качестве экспедиторов с мешками сахара и риса, и все это по месяцу, по два, причем каждый из нас кружил между собственным домом, Василем и остальным миром, все время в движении, не подстрелить, не выследить, этакие невидимые, неуловимые жаждущие души и неизносимые тела. Иногда кто-то из нас пропадал надолго, потому что в мире было полно Гжанек, серьезных и не очень серьезных, и некоторых нам даже удавалось заманить в каш лагерь, но, как правило, им не нравилась тамошняя атмосфера, а может, обескураживало то обстоятельство, что они оказывались в меньшинстве, то есть одна против всех. Ведь мы отправлялись на охоту поодиночке, по очереди, никогда не исчезали все втроем, и если исчезал один, то остальных связывал союз презрения и ревности.
Как все это сплеталось? Как стоцветная ткань небывалой стойкости. Основа и уток, случайность и хаос. И казалось, только он, Василь, является единственным постоянным элементом. Он нерушимо пребывает в средоточии сумбура и удерживает его в равновесии. Возможно, так и было, возможно, без него мы разлетелись бы, пропали в чуждом и враждебном хаосе. Он был, просто-напросто был. По сути, он не выходил из дому. А если делал это, то крайне неохотно, словно предчувствовал всю коварность и все западни мира. Он закончил лицей и вычеркнул действительность. Стер ее, как ластиком. Невероятно, но у него не было никаких дел. Но так оно и было. Иногда он ездил к тетке в Краков, что-то врал ей и вытягивал небольшие деньга, в которых в общем-то не нуждался, потому что мать каким-то образом обеспечила его. Привозил их, а заодно и рассказы о сумасшедшей старухе, которая разговаривала с портретом Маршала,[35]а 1 мая и 22 июля[36]опускала на окнах черные шторы.