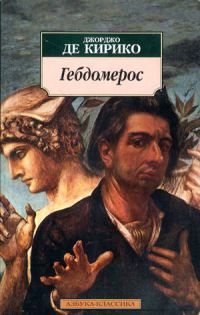Книга Последний Иерофант. Роман начала века о его конце - Владимир Шевельков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ахти, живой какой! Сидит он, понимаешь, — посодют еще, успеется! Ходишь туда-сюда с тайными поползновениями, а я тут беспросветно прозябаю. И вообще, малахольный ты чегой-то… Какое украшение? Эта вот сережка, что ли? — Никаноровна повертела ее, оглаживая пальцами и озадаченно разглядывая. — Видать, у тебя точно сотрясение мозгов, поди ушиб-контузия? Ты же мне сам их подарил!
— Может быть… Очень может быть… Только я в самом деле ничего не помню — меня в полиции избили. Саданули по голове, да так, что я все мигом забыл. Вот уж точно, как отшибло.
— Ишь ты, сердяга! А я правду говорю — цацки эти ты подарил, давно уже. Одну-то я потеряла месяца три назад — не уберегла! Ты уж не серчай…
Старуха помолчала. Потом, достав откуда-то зубочистку, поковыряла в зубах. Поморгав, прищурилась, посмотрела на Викентия Алексеевича:
— Андрей! Или нет, погоди… Васенька, почему тебя так долго не было? А я ведь все ждала, ждала… Я так переживала, что переживание закончилось алкогольным отравлением. А этот пакостник — твой братан, когда вы второго дня в картишки резались… Если бы ты только знал, как он, змей, мать свою обидел, матушку то ись вашу единокровную…
Она всхлипнула и, скорчив затем ужасную мину, невообразимо изменив голос и выпучив воспаленные белки, передразнила:
— «Если ты проиграешь, в качестве утешительного приза — Никаноровна».
Старуха подошла к столу, налила водки из орленой бутылки в граненый стакан, другой рукой взяла графин, стоявший рядом. Отхлебнув из стакана, она немедленно припала прямо к горлышку графина, жадно глотнула и тут же поперхнулась. Страшно покраснев, хватая ртом воздух, Никаноровна часто замахала руками, метнулась к роялю, схватила еще один графин — в комнате их была целая «коллекция».
— В последнее время — ух-х! — стала забывать… — мучительно выдавила из себя старуха. — У меня… у меня ж по всем графам и графиням спиритус розлит медицинский, рабалаторный — неразбавленный сиречь!
Она принялась беспокойно копаться в мешке, громоздившемся посредине комнаты. Достав оттуда исписанный замусоленный листок бумаги, стала внимательно изучать его содержание, а затем порвала, спрятала клочки в мешок и погрозила гостю пальцем:
— Смотри, Вась, в мешок не лазь! Не суй свой нос куда не надо. А то ходят всякие, а потом провизия пропадает. Куда ж это годится? У меня тут такая история однажды приключилась — повадился злыдень какой-то спиртуоз мой выпивать. И все мои продукты тоже съедал, а я потом по неделям голодала, — она подозрительно, с горькой укоризной посмотрела на «Кесарева-Челбогашева». — Все выдует и сожрет, ну чисто прорва какая! Взяла я да и насыпала в графины мышьяк. Так отравилось восемь человек — насмерть! Вот они меня таперича и разыскивают — посадить хочут. За убивство, ясное дело, осудют и повесят, и никто не вступится за бедную Никаноровну, голодную и холодную! Вестимо — курица не птица… Ты уж точно не вступишься, изменщик коварный!
— Отчего же! Разве Закон Империи не защищает женщину? — в Думанском заговорил правовед. — За непреднамеренное убийство вас никто не осудит. Если вы не стали бы утверждать, что действовали с намерением лишить жизни этих восьмерых, то у вас нет никаких оснований опасаться за собственную свободу, а тем более за жизнь. Закон же не обязывает вас давать показания против себя самой, не так ли? Целиком положитесь на Закон, сударыня!
Никаноровна повертела у виска крючковатым подагрическим пальчиком:
— Ты че эт, Вась? Спятил? «Положитесь на Закон, сударыня»! Мадам я те, што ль, какая? Вот говоришь складно, вроде как по писаному, аж на «вы» величаешь, а вдуматься, так фуфло натуральное выходит, свинячья петрушка! За восьмерых, слышь ты, меня оправдают! А за Сатина тогда, может, и вовсе Владимира дадут? С мечами аль без?
— Да кто вы такая, в конце концов? — Думанский набрался храбрости и пошел ва-банк.
Она захохотала раскатистым хохотом, вскочила, в эйфорическом возбуждении закружилась по комнате.
— Кто мы в конце? Читай, сердешный, на лице!!! Ах, если бы ты знал, как я смеялась раньше — голосок у меня был точно колокольчик! Вот послушай! — И Никаноровна по-старушечьи захихикала. — Подводчица я. Усек? Обеспечиваю специальные фатеры — вычисляю и нанимаю, стряпаю подложные ксивы, сиречь пачпорты, барахлишко сплавляю награбленное. Я ж экспроприатор и пьяница. А еще я ясновидящая и могу рассказать прошлое, все как было и как оно есть!
— Ну, тогда скажите, кто по-вашему я.
— Чтобы твое прошлое рассказать, и без моих исключительных способностей обойтись можно! Шнифер[65]ты первостатейный, Васятка. Ловко работаешь: до сих пор ни разу не попадался, а дальше — кто ж знает, как карта лягет? Вот братишка твой — тот горлопан и бунтарь, все по тюрьмам, да по острогам — покидало его с кичи на кичу.
— А Сатин тогда кто? — насторожился перелицованный адвокат.
— Сатин-то? Хе-хе! Сатин… а он, думаешь, сам помнит, как его зовут? Кем он только не был… Хрен его разберет? Ведет себя как гайменник,[66]а на киче никогда не чалился — склизкой, уходил, видать. Вот, нашел тебе этого Кесарева, ты его убил (такой грех на душу взял!), ходишь теперь с евонным паспортом, да всплыло, что был он бандит похлеще тебя. Связались с этой дурой Нинкой Екимовой, оторвой, — она ж убиенного тобой Кесарева полюбовница была! Порешила с ним в Новгороде купчину-бедолагу. Так что, когда вы подельника-то ее прикокнули, она ни словечка не заявила. Вам бы сразу бы про Кесарева этого получше разведать, да только вы знай мотаетесь с одного города в другой — чирьи у вас, что ли, на мягком месте? Задним умом кумекаете… Тьфу! Да ты ж ведь сам-то не лучше Сатина, клюквенник несчастный, церквы святыя грабишь, позор с тобой за одним столом сидеть! — Никаноровна с досады плюнула в его сторону. — Ведь он тебя чуть не из помойки вытащил! Как Митька, ч…тово отродье, с Нерчинской каторги бежал и к тебе по-родственному прибился, впору вам тогда было на паперть идти, милостыню просить. Ну да ничего, не зря ты когда-то с медвежатниками якшался, ремесло у их перенял, дело свое знаешь. Ежели б ты еще у Сатина поучился штукам разным, цены б тебе и вовсе не было как деловому человеку!
— Мне у него учиться?! Он ведь… А чем это он умнее меня?
— Чем? Да ты по сравнению с ним — сявка, пацан на стреме! Хоть бей меня, тебя с ним и сравнивать нельзя! Он вообще не нам чета: вон как в законах поднаторел — намастрячился, смог аж в адвокатскую контору устроиться! Екимову горничной к Гуляеву определил, тебя, неуча, — к Савелову в банк. Да он так пришить может, что ни один прозектор-патологоанатом смертельную причину не выпотрошит. — Никаноровна понизила голос до шепота, выпучила глаза и склонилась к уху Викентия: — Я даже побаиваюсь, как бы он меня жизни драгоценной не лишил, душегуб! А какую историю со страховками придумал! Находит, вишь, себе двойника — сиротинушку себе в прислужники берет. Жизнь свою застрахует, да так хитро подстроит, падло, что премию страховую, какую за него должен прислужник получить, сам получает. Он, вишь, слугу-то ентого убьет, изуродует по чем зря в свое удовольствие, а убиенному свои документы-то и подкинет, так что выходит по документам ентим, будто бы его убили, а сам он живет по пачпорту прислужника, упокой, Господи, душу его болезную! Сколько уж убивец окаянный этих страховок за себя выцыганил! Натурально — гений душегубов! Эх, сколько было у него этих Сатиных да Панченко — он и имя то свое, отцом с матерью даденное, наверняка позабыл давно… А уродует ведь не в простоте — точно художник какой, разными способами, непременно, чтоб до неузнаваемости! Рисует всякие заковыристые знаки и символы — все под ритуальное убийство подгоняет, тем и дурит полицию, от себя отвлекает… Так что страшно мне, милок.