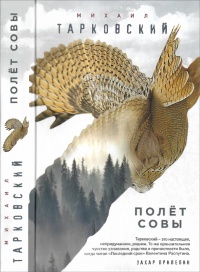Книга Правда - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Видишь ли, дорогая...
Ленин обожал Инессу; он изменял ей с другими женщинами не чаще раза в месяц и, изменяя, думал о ней же. Но жениться на ком бы то ни было ему хотелось еще менее, нежели разводиться с Крупской. Дети? Он, пожалуй, хотел детей; но у Инессы их и так уже было пятеро — придется всю эту ораву содержать... Нет, нет. Его вполне устраивало существующее положение вещей. Он притянул Инессу к себе и шепнул, целуя ее в розовое ушко:
— Куда торопиться? Разве тебе плохо со мной? Зачем этот буржуазный брак с его буржуазными...
— Я бы сшила к свадьбе новое платье.
— Я куплю тебе десять платьев. Послушай, а Надя тебе ничего такого о себе не говорила?
— Какого такого?
— Может, она признавалась тебе, что любит какого-нибудь мужчину...
— Нет, Ильич. Она любит тебя. Но она благородная женщина и не хочет мешать твоему счастью. — «Вот хитрая стерва», — подумал Ленин.
— Ну иди же ко мне, мой маленький лектор...
По уикендам в Лонжюмо устраивались на чьей-нибудь квартире небольшие вечеринки для своих: танцульки, карты, скромный ужин, салонные игры, иногда даже небольшие капустники. Разумеется, это происходило лишь в отсутствие Дзержинского, который не одобрял веселья и праздности. Но Феликс Эдмундович — во всяком случае, так считалось, — отсиживал очередную каторгу или, что более вероятно, путешествовал инкогнито по земному шару, плетя конспиративные сети и устраивая заговоры, и никто не мешал революционерам расслабиться: кот из дому — мыши в пляс... Жить в Лонжюмо было веселей и дешевле, чем в Париже, и идея выехать из столицы в деревню на все лето восхищала русских эмигрантов. Ленин целыми днями купался и загорал, Луначарский писал драматические поэмы, и даже Каменев с Зиновьевым, кажется, переживали второй медовый месяц.
Так было и в эту субботу. Все были очень веселы: Ленин показывал фокусы, Арманд за роялем пела романсы, Надежда Константиновна — «Мурку», Луначарский читал стишки, Зиновьев пародировал Луначарского, Орджоникидзе плясал лезгинку; потом Каменев с Лениным, заложив большие пальцы рук за жилетки, выдали «семь сорок»... Инесса смеялась, хлопала в ладошки... Наконец все устали и, утирая пот, вновь уселись за стол. Вечер за окном был теплый, томный... Хотелось чего-то романтического. Ленин предложил расписать пульку, Зиновьев поддержал его, но остальные не согласились:
— Ильич, вы с Гришей, ей-богу, как помешались на своих картах... Давайте лучше сыграем во что-нибудь другое.
Луначарский, как обычно, предложил буриме. Но и буриме всем надоело. Тогда он вызвался прочесть вслух свою новую пьесу, отчего все застонали в ужасе: своей графоманской продукцией, которую он производил чуть не тоннами, Анатолий Васильевич в полчаса мог свести с ума любого. Положение спас Орджоникидзе, сказав:
— В бутылочку, а, господа? Давненько мы в нее, родимую, не играли.
— Ну, вот еще! — Дамы притворно запротестовали. Но энергичный Серго уже расчищал поверхность круглого стола.
Он первым и крутил бутылочку — темную, пузатую бутылку из-под «Вдовы Клико». Совершив несколько оборотов, бутылка указала на Надежду Константиновну. Она, жеманясь, подставила губы... Ленин пристально следил за нею. Красавец Серго был, конечно, опасный мужчина. Но жена не выказала никакого особенного волнения. Да и поцелуй был короткий, прохладный.
— Крути — с кем! — смеясь, хором закричали революционеры. — Крути — с кем!
Крупская, утерев рот салфеткой, аккуратно раскрутила бутылку. Теперь ей выпало целоваться с Каменевым. Лева приобнял ее очень нежно, но это было не в счет. Бутылка продолжала свои странствия: Каменев, ловко смухлевав, раскрутил на Зиновьева, тот — на Луначарского, Луначарский — на Инессу, Инесса — на Ленина; Ленин, целясь в Инессу, промахнулся и угодил в Зиновьева, Зиновьев попал в Орджоникидзе, но тот увильнул под предлогом внезапно заболевшего зуба... Игра продолжалась довольно долго и с переменным успехом. После очередного круга бутылочка в руках Надежды Константиновны указала на Луначарского. Они смотрели друг на друга... Что-то кольнуло Ленина в самое сердце. Он мысленно обругал себя собакой на сене. Нет, конечно, он не ревновал. Но позволить творению его собственных рук, его Галатее, удрать от него и задарма ублажать этого пустого виршеплетика, который все равно не подумает на ней жениться, а поматросит и бросит! Да и слыть рогоносцем было очень неприятно: кто теперь поверит, что он никогда не жил с женой как с женой?
Однако поцелуй выглядел вполне целомудренно. Ленин решил, что многозначительный взгляд, которым обменялись жена и ее предполагаемый любовник, просто пригрезился ему. Однообразная игра ему надоела; он потихоньку выманил Инессу в темный коридорчик...
— Совет да любовь, — сказал Зиновьев, выглянув из дверей. — А там пулечку расписывают...
— Ах, Гриша, подожди. Не начинайте без меня. Сейчас, сейчас... сейчас...
Но подозрения уже глубоко засели в его сердце. Ему теперь все казалось странно: и дурное настроение жены, и хорошее; он подозревал ее, когда она начинала опять клянчить развода, и подозревал еще сильней, когда она на время оставляла свое нытье. Он измучился; он хотел знать правду.
Как всякому порядочному революционеру, ему первым делом пришла мысль о слежке с переодеваниями: опыт у него уже был богатый. К тому же он любил музыкальную фильму, водевили и оперетки, а там, чтобы застукать неверную жену, постоянно кто-нибудь в кого-нибудь переодевался и приходил на свидание вместо другого человека. Сюжеты «Фигаро» и «Летучей мыши» замелькали в его воображении. Но там, помнится, всегда была какая-нибудь субретка-горничная. В Лонжюмо горничных никто не имел. «Самому одеться субреткой? Комплекция, увы, не та, да и навыка нет».
— Гриша, ты когда-нибудь одеваешься в женское платье?
— Нет. Зачем? — искренне удивился Зиновьев.
— А Лева?
— С какого перепугу, Voldemare?! Ты нас за кого принимаешь? Уж Лева-то тем более...
Ленин не совсем понял, почему «тем более», но понял, что изображать горничную никто из приятелей не сумеет. Пришлось отказаться от этой затеи. «В конце концов, мы не в оперетке. Люди все серьезные. Мы пойдем другим путем». Он решил поговорить с женой — тонко, деликатно, тактично:
— Надя, у тебя есть любовник?
— Да что ты такое говоришь, Ильич! Любовник! — Однако она покраснела.
А на следующий день — жены не было дома — он, выдвинув ящик ее письменного стола — искал ножницы, чтоб обстричь ноготь на мизинце, — обнаружил там сложенную вчетверо, надушенную записочку... Не раздумывая, он развернул ее. Там были стихи, он сразу узнал почерк...
«Так вот уже куда у них зашло! Мадригалы ей посвящает! Сволочь! Архисволочь! Иудушка! Декадент! — Ленин вспомнил некоторые строки из прочтенного стихотворения и весь передернулся: о качестве поэзии судить он не мог, но содержание было весьма эротическое, хотя и туманное. — Я его прибью. Я прибью эту тварь. К чорту сексуальную революцию, к чорту передовые взгляды; я не желаю разгуливать по всему Лонжюмо с рогами на голове. Честь моей жены — моя честь. Так отделаю, что он к чужой бабе на пушечный выстрел больше не подойдет. Царевич я иль хрен с горы?!»