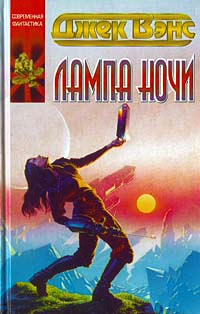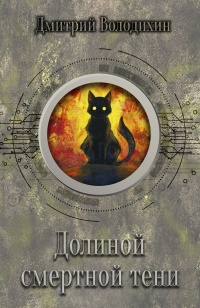Книга Искушение винодела - Элизабет Нокс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Мои сыновья, — ответил он, — сделают, как я им скажу.
В письме говорилось:
Не стану писать, где я был. Хотел бы, но сам того не ведаю. Заговорившим со мной людям я отвечал на их родных языках, не задумываясь, как он зовется. Порой приходилось что-то выдумывать, например имена. Иногда получалось с трудом, и я притворялся тобой.
Ноги у меня уплотнились, стали сильнее. Я обманывал всех и себя, будто у меня за спиной нет другой жизни. Да, заносчиво и высокомерно с моей стороны, но это лучше, чем сидеть на месте. Потом, правда, я признал прошлую жизнь.
Жаль, по земле больше не ходят прокаженные, не звенят в свои колокольчики, не стучат в колотушки, дабы люди, заслышав их, покидали скорее дорогу. Я бы мог притвориться прокаженным. Пришлось прикинуться нищенствующим монахом, и люди стали давать мне еду и деньги, в которых я совсем не нуждался. Легче было общаться с богатыми господами и дамами — с ними можно поговорить, соглашаясь на все, что следует за разговором.
На то, чего они захотят. Я привык к теплу и стал соблюдать чистоплотность.
Это мое первое письмо. Первый раз, когда я сам вывожу слова пером на бумаге. До того лишь читал и никогда не смел даже думать, что придется однажды писать. Оказалось, писание подобно чтению, и мне трудно поверить, будто я сам что-то творю на бумаге — как прочие люди.
«Прочие люди» — лживые слова, которым я выучился. Они важны. Необходимы. Без «прочих людей» жить нельзя. Эти слова я произношу, дабы отделить себя от прочих, когда говорю о себе. Когда лгу. Раньше, будучи честным, я походил на дурачка, идиота, безумного, и обычно беседа с людьми проходила вот так: иду босой по заснеженной обочине дороги, останавливается карета, и кто-то изнутри сквозь шарф произносит: «Вы, должно быть, голодны?» И я соглашался, говорил: да, голоден. От всей души говорил, потому что жаждал общения. Теперь же просто отвечаю: «Благослови вас Бог» — и сразу стискиваю зубы.
Я одолжил у него перо — он пишет стихи, полагая себя вторым лордом Байроном. Он все время в разъездах, но не занят ничем таким, от чего хотелось бы убежать. Вот он вернулся и удивился, застав меня на прежнем месте, на одной из арендованных вилл, в сумрачных комнатах, уставленных задрапированной мебелью, куда свет проникает сквозь водопад дождя за окном. Сказал, что не удивится, если найдет меня в следующий раз в углу посреди сплетенной мною же паутины. Зеркала. Я теперь в них. Он зовет меня своим эльфом, не подозревая, как близок к истине. Я же все время ношу сорочку, дабы он не увидел шрамов в виде зеркальных букв «J» и перьев.
Я выучил английское выражение, и мне оно нравится. Подходит, когда на вопрос: «Кто ты?» — можно ответить: «Я тот, кто я есть», имея ввиду: «Не твое дело». Надеюсь вскорости научиться отвечать подобным образом и на другие вопросы. Шрамы у меня на спине: «J» отражение — это ответ Яхве на вопрос Моисея: «Кто ты?», ответ Бога, который не желает говорить о себе, которого нельзя спрашивать, которому можно лишь подчиняться. Его нельзя понимать. Он слепит людей их собственным блеском и красотой этого мира.
Я пользуюсь мылом, думая лишь о мыле. Лежа в ванне, перекатываю его из руки в руку. Оно такое гладкое, бледное. Надеюсь, и меня когда-нибудь используют, израсходуют, как это мыло.
Я познал слишком много печали. Она — мое вечное состояние, как глухота. Выхожу из дому и гляжу, как волны бьются о скалы, только ничего не слышу — я не здесь и потому не могу слышать. Или же нечто лишает меня чувств, не давая улавливать звуки.
Я люблю тебя, Собран, но не приду к тебе, пока не перестану желать сжечь эту боль болью.
L’EPLUCHAGE[43]
Собран не показал письмо Авроре, как и второе послание от ангела:
Меня взяли на работу садовником. Я пообещал хозяину работать весь день и отделять сорняки от культурных растений. Хозяин смеялся, однако работу дал. Когда мы прививали сливу к персику, он поразился, спрашивая: «Кого ты убил?» Ему кажется, будто, приняв меня, он словно обнаружил у себя в саду бродячего породистого щенка. Говорит, я просто обязан быть чьим-то садовником, потому что обладаю всеми знаниями и умениями. Пришлось выдумать ссору с родителями. Оказалось нетрудно. Хозяин предложил заключить договор, и теперь прочие младшие садовники горько завидуют. «Прочие садовники» звучит много лучше «прочих людей», ведь я не человек — только младший садовник.
Надолго я тут не задержусь. По пути сюда я видел, как строится длинный наклонный настил и некое устройство, предназначенное, как мне показалось, для полетов. Думаю вернуться в то место. Нужно идти самому или платить за подвоз, поскольку не могу больше играть Венеру для всевозможных Тангейзеров во фраках или кринолиновых юбках. Надо мужаться, потому что те из них, кто темен, покинули меня. Не знаю, где они, но в Германии их больше нет. Никто меня не наказывает, и я глух ко всем чувствам, кроме боли.
Гармиш,
5 марта 1842 г.
Прусский граф — ему сорок пять лет — потерял ногу в бою и сейчас ищет хирурга, который отнял бы у него вторую, чтобы он смог сесть и поднять в небо машину тяжелее воздуха. Граф не гонится за славой, просто хочет знать, возможно ли это.
Я работаю у него. Естественно, рекомендаций у меня при себе не имелось, никто за меня не ручался. Я лишь предстал перед графом в одежде лучше той рвани, в которой обычно хожу по дорогам. «Обычно»… странное слово. Обычно я проношу пресную воду сквозь соляные шахты, обычно лежу на крыше и читаю, тогда как стены дворца оттеняют свет от огней на земле. Обычно поднимаюсь в небо туда, где воздух разряжен, а горизонт изгибается.
Раздобыв новое пальто, новую обувь, я пришел к графу, представился и сказал правду: мол, сидел в таверне в Брюгге и смотрел, как один шотландец делает наброски летательного устройства. Потом предложил графу воспроизвести ту схему. У него с собой имелся альбом для чертежей, и, рисуя, я рассказал, как в прошлом году проезжал мимо строящегося настила. «Что же вы не представились тогда?» — спрашивал граф. Я отвечал, будто ездил по поручению отца в одно место и что по виду приспособление, которое строит граф, летать не сможет. «А оно и не будет летать, юноша, — говорил граф, — оно будет скользить по воздуху».
Я предложил свою помощь, согласившись брать плату едой и кровом. Граф принял меня.
Я сразу же предупредил хозяина дома, что понятия не имею о его науке, и он принялся объяснять материал, рисуя схемы на грифельной доске. Меловая пыль сыпалась с нее, будто хлопья отслоившейся краски — с картины о божественном.
Мне нравится этот человек. Прямо сейчас, заметив улыбку у меня на лице, он спросил, что это я такое пишу. Письмо другу? Он изумился, полагая, будто у его нового помощника друзей нет, а сам помощник свалился с неба.