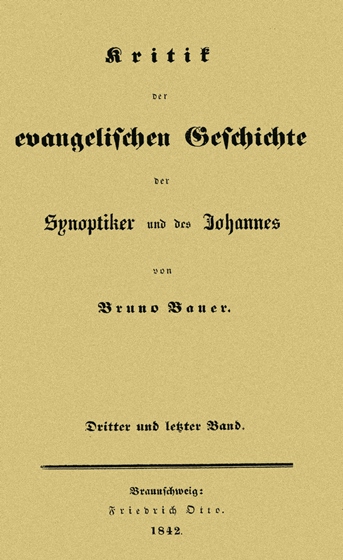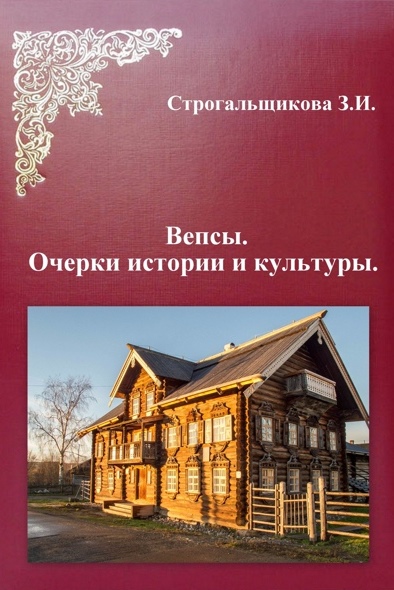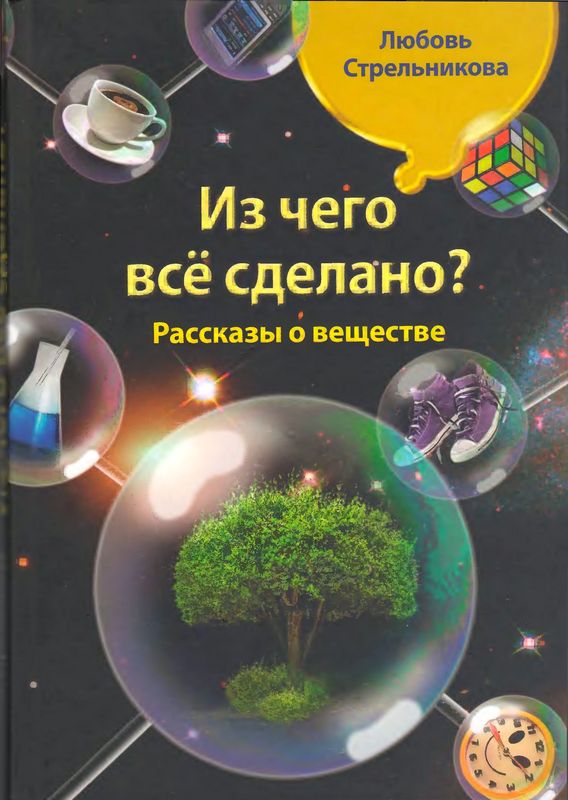Книга Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории - Освальд Шпенглер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поэтому евклидовская душа античности могла пережить свое собственное, привязанное к нынешним требованиям существование лишь в виде случайности в античном стиле. Если для западной души случайное как судьба имеет очень мало веса, то для души античной, напротив, судьба – это раздувшаяся до чудовищных размеров случайность. Это и означают Ананка, Геймармене и Фатум. Поскольку античная душа, собственно, истории не переживала, у нее, по сути, не было и чутья на логику судьбы. Не следует позволять словам обманывать себя. Общенародной богиней греков была Тихэ, которую едва ли кто смог бы тогда отличить от Ананки. Однако мы воспринимаем судьбу и случайность со всей весомостью противоположности, от разрешения которой в глубинах нашего существования все и зависит. Наша история – это история великих взаимозависимостей; античная история, причем не один лишь ее образ у историков вроде Геродота, но вся ее значимость, – это история анекдотов, т. е. ряд скульптурных частностей. Анекдотичным в полном смысле этого слова был и стиль античного существования вообще, как и стиль всякого отдельного жизненного поприща. Чувственно-зримая сторона событий сгущается до враждебных истории, демонических, абсурдных случаев. Они отрицают и опровергают логику событий. Все пьесы образцовых античных трагедий исчерпываются случаями, предающими осмеянию осмысленность мира; иначе невозможно истолковать значение слова ε῾ιµαρµένη [Геймармене, судьба (лат.)] в противоположность шекспировской логике случайности. Повторим еще раз: то, что приключается с Эдипом, будучи совершенно ничем не обусловлено ни внешне, ни внутренне, могло бы произойти со всяким без исключения человеком. Такова форма античного мифа. Сравним с этим глубинно-внутреннюю, обусловленную всем существованием и отношением этого существования ко времени необходимость судьбы Отелло, Дон Кихота, Вертера. Это есть различие (о чем уже говорилось) трагедии положений от трагедии характеров. Однако эта же противоположность повторяется также и в самой истории. Всякая западная эпоха обладает характером, всякая же эпоха античности представляет собой ситуацию. Жизни Гёте присуща судьбоносная логика, между тем как жизнь Цезаря была исполнена мифической случайности. Шекспир первым внес сюда логику. Наполеон – это трагический характер, между тем как Алкивиад попадает в трагические положения. Астрология в том ее виде, в котором она начиная с готики и до барокко господствовала в мироощущении даже своих отрицателей, желала овладеть всем будущим течением жизни. Фаустовский гороскоп, наиболее известным примером которого был, возможно, тот, что составил Кеплер для Валленштейна, предполагает целостное и исполненное смысла направление всего еще только развивающегося бытия. Античный оракул, всегда относящийся к отдельным эпизодам, собственно говоря, является символом бессмысленного случая, мгновения; он признает в ходе событий наличие чего-то точечного, бессвязного, и в том, что выходило из-под пера афинских авторов как история, что переживалось там в качестве таковой, изречения оракулов вполне уместны. Бывало ли вообще у грека сознание исторического развития к какой-либо цели? Могли ли бы мы без такого сознания вообще размышлять об истории, историю творить? Если сравнить судьбы Афин и Франции в соответствующие эпохи Фемистокла и Людовика XIV, мы обнаружим, что стиль исторического ощущения и стиль действительности в каждом из них едины: в первом – это доведенная до крайности логичность, во втором – такая же нелогичность.
Поймем теперь глубинный смысл этого значительного факта. История – это осуществление души, и тот же самый стиль господствует в истории, которую делают люди, как и в той, которую они наблюдают. Античная математика, а с ней и античная история исключают символ бесконечного пространства. Это не случайно, что сцена античного существования – самая маленькая из всех: отдельно взятый полис. Ему недостает горизонта и перспективы (несмотря на эпизод похода Александра) точно так же, как сцене античного театра с его плоско заканчивающимся задником. Сравним с этим дальнобойность воздействий западной кабинетной дипломатии, а также капитала. Подобно тому как греки и римляне познавали в своем космосе лишь передний план – и признавали его в качестве действительного (что происходило при внутреннейшем отвержении халдейской астрономии), подобно тому как они, по сути, имели лишь домашних, городских и полевых богов, однако не имели ни одного бога светил[111], – так и рисовали они лишь передний план. Ни разу в Коринфе, Афинах и Сикионе не был создан пейзаж с горами на горизонте, с проплывающими облаками, с дальними городами. На всех расписных вазах мы видим лишь фигуры в их евклидовой разобщенности и художественном самоудовлетворении. Всякая группа фигур на фризе храма выстроена в ряд, в ней никогда не наблюдается контрапунктическое построение. Однако и переживался лишь передний план. То, что внезапно случалось с человеком, было судьбой, а не «течением жизни», и потому Афины наряду с фресками Полигнота и геометрией Платоновской академии создали трагедию судьбы – вполне в духе пресловутой «Мессинской невесты». Полная нелепица слепого рока, воплощенная, например, в проклятии Атридов, открывала аисторической античной душевности весь без остатка смысл ее мира.
17
Прояснению этого могут служить несколько примеров – смелых, однако уже более не рискующих быть неверно понятыми. Представим, что Колумб получил поддержку не от Испании, а от Франции. Какое-то время это было даже наиболее вероятным. Несомненно, Франциск I как властелин Америки получил бы императорскую корону вместо Карла V. Ранняя история барокко от sacco di Roma{53} и до Вестфальского мира, это теперь в полном смысле испанское столетие в религии, духовности, искусстве, политике и морали, служившее как в общем и целом, так и в частностях основой и предпосылкой веку Людовика XIV, вылепливалась бы тогда не в Мадриде, а в Париже. Взамен имен Филиппа, Альбы, Сервантеса, Кальдерона, Веласкеса мы называли бы теперь тех великих французов, которые остались теперь (так, пожалуй, можно обрисовать то, что постигается с немалым трудом) нерожденными на свет. Стиль церкви, окончательно определенный тогда испанцем Игнатием Лойолой и проникнутым его духом Тридентским собором, политический стиль, заданный тогда испанским военным искусством, кабинетной дипломатией испанских кардиналов и придворным духом Эскориала и продержавшийся вплоть до Венского конгресса, а в значительных своих моментах – еще и после Бисмарка, архитектура барокко, великая живопись, церемониал, изысканное общество больших городов было бы тогда представлено другими глубокими умами из числа аристократии и духовенства, другими войнами, не теми, что провел Филипп II, другим зодчим – не Виньолой, другим двором. Случайность избрала испанский жест для поздней западной эпохи; внутренняя же логика эпохи, которая должна была найти свое завершение в великой революции (либо в событии аналогичного содержания), осталась бы при этом неизменной.
Французская революция могла бы быть представлена событием иного характера, происшедшим в ином