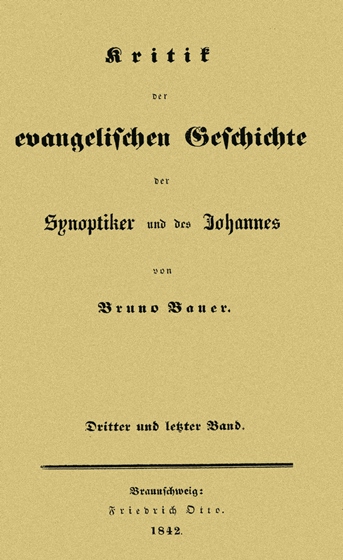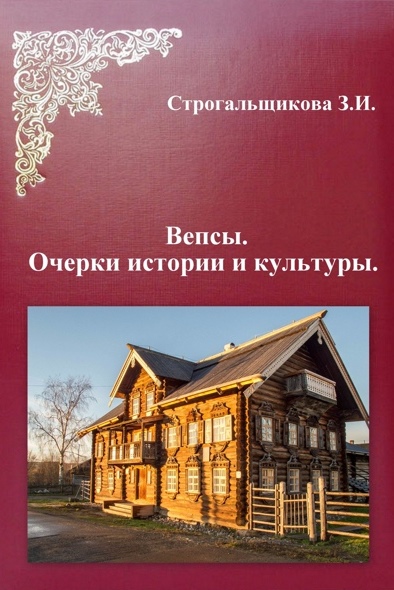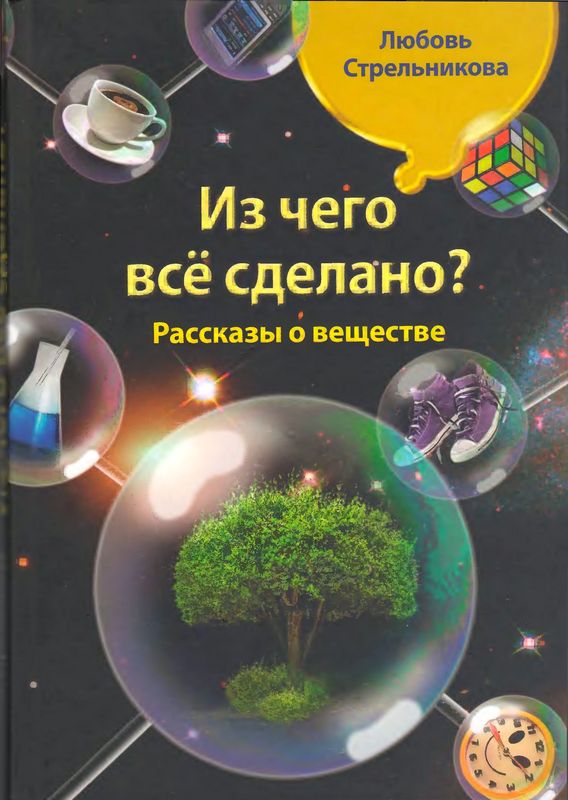Книга Закат Западного мира. Очерки морфологии мировой истории - Освальд Шпенглер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обычная историография, поскольку она не уходит в собирательство фактов, неизменно остается при пошло-случайном. Такова уж судьба ее творцов, которые в душевном плане остаются – более или менее – на уровне толпы. История и природа сливаются у них перед глазами в избито-банальное единство, а «случай», «Sa sacrée Majesté le Hazard» – это для человека из толпы самое понятное из всего, что только можно себе представить. Это есть причинно-следственное за занавесью, пока еще не доказанное, заменяющее ему тайную логику истории, которой он не ощущает. Отдающий анекдотом передний план картины истории, место сборищ всех научных охотников за случайностями и всех романистов и драматургов обычного пошиба, всецело этому соответствует. Как же много войн началось оттого, что ревнивому царедворцу было желательно удалить генерала от своей жены! Как много битв выиграно или проиграно в связи с нелепыми случайностями! Стоит только посмотреть, как еще в XVIII в. трактовалась римская история, как трактуется китайская вплоть до сегодняшнего дня! Можно вспомнить об ударе, который нанес веером алжирский дей{51}, и о вещах подобного рода, которые оживляют историческую сцену опереточными мотивами. Смерти Густава Адольфа или Александра выглядят так, словно их выдумал неумелый драматург. Ганнибал – это просто какое-то интермеццо в античной истории, в ход которой он внезапно вмешался. «Проход» Наполеона не лишен мелодраматизма. Тот, кто отыскивает внутреннюю форму истории в какой-либо каузальной последовательности ее видимых единичных событий, неизменно, если будет прямодушен, отыщет в ней комедию, полную бурлесковой бессмыслицы, и у меня есть основания полагать, что недооцененная сцена танца подпивших триумвиров в «Антонии и Клеопатре» Шекспира (одна из самых сильных в этом бесконечно глубоком творении) возникла как издевка первого исторического трагика всех времен над «прагматическим» воззрением на историю. Ибо именно такое воззрение спокон веку господствовало в «мире». Оно-то и придавало маленьким честолюбцам мужества и надежд, с тем чтобы они вмешивались в мир. Руссо и Маркс полагали, что их взгляд на него и его рационалистическую структуру, их теории способны изменить «ход вещей в мире». Даже социальные или экономические истолкования политических событий, до которых, как до некой вершины, поднимаются ныне исторические исследования, остающиеся, ввиду своего биологического уклона, под постоянным подозрением причинно-следственных оснований, все еще преимущественно плоски и избиты.
В значительные моменты у Наполеона открывалось сильнейшее чутье на глубинную логику всемирного становления. Тогда он догадывался, в какой степени он сам является судьбой и насколько судьба присуща ему самому. «Я чувствую, как нечто толкает меня к неведомой цели. Как только я ее достигну, как только во мне пропадет нужда, будет довольно пылинки, чтобы стереть меня в порошок. Однако до этого момента всех человеческих сил не достанет на то, чтобы меня превозмочь», – сказал он при начале Русского похода. Это была вовсе не прагматическая мысль. Тогда он догадался о том, насколько мало логика судьбы нуждается в чем-то определенно-частном, будь то человек или ситуация. Он сам, как реальный человек, мог быть убит при Маренго. В таком случае то, что значил он, оказалось бы воплощено в ином образе. В руках великого музыканта одна и та же мелодия способна обнаруживать величайшее многообразие. Слуху простых слушателей она может представать в полностью измененном виде, притом что в глубине – в совершенно ином смысле – она останется той же самой. Эпоха германского национального воссоединения оказалась воплощенной в личности Бисмарка, освободительная же война протекла в разбросанных и почти что не имевших личностного отпечатка событиях. Говоря на языке музыканта, и та и другая «тема» могла быть исполнена и по-другому. Бисмарка могли уже вскоре отправить в отставку, а сражение при Лейпциге могло быть проиграно; группа войн 1864, 1866 и 1870 гг. могла быть представлена дипломатическими, династическими, революционными или экономическими фактами («модуляциями»), хотя физиономическая выпуклость западной истории, в противоположность стилю хотя бы той же истории индийской требует – так сказать, контрапунктически – в решающих местах сильных акцентов, войн или великих личностей. Сам Бисмарк указывает в своих воспоминаниях, что весной 1848 г. могло быть проведено объединение в большем масштабе, чем в 1870-м, но осуществлению этого помешала политика прусского короля, а точнее, его персональный вкус. Однако, и Бисмарк это также ощущает, то было бы вялым исполнением музыкальной «фразы», что в любом случае потребовало бы коды («da capo e poi la coda» [с начала, а затем кода (ит.)]. Сам же смысл эпохи, т. е. тема, не изменился бы ни от какого переформирования ее фактического наполнения. Гёте, возможно, мог умереть в молодости, но его «идея» умереть не могла. «Фауст» и «Тассо» остались бы ненаписанными, однако они все равно – в некоем весьма таинственном смысле – «явились» бы, пускай без своей поэтической зримости.
Ибо это случайность, что история высшего человечества протекает в форме великих культур, как случайность и то, что одна из них пробудилась в Западной Европе ок. 1000 г. Однако начиная с этого момента она следовала «закону, что ее определяет»{52}. В рамках всякой эпохи существует неограниченное множество поразительных и непредсказуемых возможностей запутаться в частных деталях, сама же эпоха необходима, потому что в ней присутствует жизненное единство. То, что ее внутренняя форма именно такова, – это ее предопределение. Новые случайности могут внести в ее развитие величия или убожества, счастья или горести, однако изменить его они не в состоянии. Не подлежащий отмене факт – это не только единичный случай, но и единичный тип: в истории космоса – тип «Солнечной системы» с обращающимися вокруг планетами, в истории нашей планеты – тип «живого существа» с юностью и старостью, продолжительностью жизни и размножением, в истории живых существ – тип человеческого существования, на его «всемирно-исторической» стадии – тип великой единичной культуры[110]. А эти культуры по своему существу сродни растениям: на протяжении всей своей жизни они связаны с той почвой, на которой произросли. Типичным, наконец, является тот способ, каким постигают и переживают судьбу люди одной культуры, пускай даже для всякого единичного человека соответствующая картина будет окрашена в весьма разные цвета. То, что здесь высказывается по данному поводу, – не «истинно», но внутренне необходимо для данной культуры и данного периода, и оно