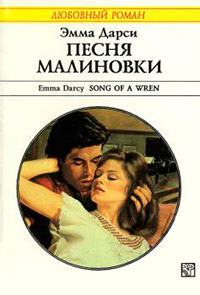Книга Роковой поцелуй - Лара Темпл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оливия. Ливви.
Его Ливви.
Она не шелохнулась, когда он подошел к ней, только наблюдала за ним, как тогда в экипаже… бесстрастно, готовясь защищаться и не выдавать того, что происходит внутри ее.
Безжалостная – и такая напуганная!
Он оторвал ее руки от двери и, сам не понимая как, встал на колени и выдохнул в раскрытые ладони:
– Прости меня, Ливви! Мне так жаль…
Она опустилась на пол рядом с ним, всхлипнув, и обвила его руками.
– Ах, нет, Лукас! Пожалуйста, пожалуйста, не сейчас. Подожди несколько секунд. Я этого не вынесу. Я твердила себе: что бы ты ни сказал, что бы ты ни решил, я буду сильной, но я не сильная, совсем не сильная. Я не хочу этого слышать, по крайней мере, сейчас… И никогда не захочу!
Видимо, его разум страдал от того же переворота, который поразил его изнутри, потому что вначале он не понял, о чем она говорит. Потом мир перевернулся, и он снова получил возможность мыслить. Он прижал к себе ее дрожащее тело, а сам прислонился спиной к стене и усадил ее себе на колени. Он гладил ее по голове, вытирал заплаканное лицо. Он заговорил негромко, утешая ее, облегчая ее боль, потому что теперь понимал, как ей было больно с того дня, как он уехал, – так же, как и ему.
– Милая Ливви, никогда не думал, что мое первое признание в любви вызовет такой отклик. Понимаю, требуется определенная сила воли, чтобы подумать о целой жизни в моем обществе, но у всего есть и хорошие стороны. Ты в самом деле не хочешь выслушать, как сильно я тебя люблю? Не хочешь? Значит, придется что-нибудь придумать. Может, выслушаешь признание на других языках?
Она перестала плакать, и он, воспользовавшись случаем, взял платок и вытер ей лицо. Она смотрела на него, как на умалишенного, который висит вниз головой на шпиле собора Святого Павла.
– Предпочитаю признаваться тебе в любви по-английски, но могу и по-итальянски – amore mio, по-испански и даже по-русски или по-арабски… Возможно, мой немецкий не слишком хорош, зато я сносно говорю по-гречески – agapi mou. А если считаешь, что я тебя обманываю, могу все написать. Я пишу не такие замечательные любовные письма, как ты, моя Ливви. Более того, я еще никогда в жизни не написал ни одного любовного письма, но я попытаюсь. Начну, наверное, с записок; буду прикалывать их к стене в нашей спальне, чтобы ты их не пропустила.
– Лукас…
– Да, моя… прости. Я забыл, что ты не хочешь слушать о том, что ты находишься в центре моей Вселенной и я больше не представляю себе жизни без тебя. Что ты хотела сказать?
– Лукас… Неужели ты говоришь это… из-за моего письма? Потому что я влюблена в тебя?
– Я знаю, что в тот день совершил ошибку. Мне не нужно было трусить и бежать просто потому, что я был уязвлен. Но ты когда-то говорила, что веришь мне. Ты мне веришь, Ливви?
– Да, любимый. Я доверяю тебе свою жизнь.
– Тогда доверь мне и свое сердце. Посмотри на меня. Ты знаешь, я не лгу. Ты всего лишь напугана, и пока все хорошо. Видишь ли, я тоже боюсь, но страх больше не может служить для нас предлогом.
Она легко коснулась его подбородка, погладив двумя пальцами. Как только она приласкала Лукаса, тепло окутало его до самых ног. Потом она улыбнулась своей прекрасной улыбкой – обещая ему и жар страсти, и нежность. Глаза у него защипало, и он зарылся лицом ей в волосы, вдыхая ее аромат, наслаждаясь своей любовью к ней и ее любовью к нему.
– Боже, Ливви! Как я тебя люблю! Ты не должна мне доверять ни на грош. Не думаю, что смогу жить без тебя, и это меня пугает. Я хочу быть сильным ради тебя, охранять тебя и делать тебя счастливой, но как я это смогу, если все, чего я хочу, – находиться рядом с тобой? Я уже не знаю, как обрести равновесие!
– Ах, Лукас! Все так просто! Какие мы с тобой оба дураки. Я так тебя люблю! Три дня я находилась в чистилище, ждала, волновалась и тосковала. Помоги же мне снять эту накидку! – Она с трудом встала с его коленей, стараясь расстегнуть крошечные пуговки.
Он вздохнул и схватил ее за руки.
– Нельзя. Скоро придет Чез, и…
Она вздохнула и прижалась к нему, положив голову ему на грудь, просунув ладонь под его пальто. Она услышала, как часто бьется его сердце.
– Он уже здесь. Это он меня привез. Наверное, ты прав и я уже нарушила слово, данное Элспет, не приходить сюда без сопровождения.
– Тебя привез Чез?!
– Я заставила его обещать, что он сразу же сообщит мне о твоем возвращении.
– Ты его заставила…
– Мы с ним договорились.
– Понятно. Что же мой брат получил взамен?
– Ничего, кроме правды. Он тоже тебя любит.
Синклер прислонил голову к стене и несколько раз глубоко вздохнул. В самом деле, ему нужно выработать более мужской способ справляться с волнами сентиментальной радости, которые накатывали на него всякий раз, как она говорила, что любит его. Она дотронулась губами до его горла и прошептала:
– Я люблю тебя, Лукас! Мне придется напоминать тебе об этом каждый день, пока ты мне не поверишь. Возможно, скоро ты взмолишься, чтобы я прекратила…
Он прижал ее теснее и запрокинул ей голову, чтобы сделать что-нибудь с ее губительными и восхитительными губами.
– Ни за что! Я буду ловить тебя на слове, моя невозможная, безжалостная, обожаемая любимая! Каждый день.
Венеция
Лукас поднимался по лестнице в Палаццо Монтиллио. На нижних этажах его кузены готовились к открытию казино, которым они управляли. Каждый вечер сюда съезжалась элита венецианского и европейского общества. Но верхние этажи дворца оставались тихими и пустыми.
Он дошел до большой спальни в конце коридора и вздохнул. Здесь слишком пусто. Он поднялся еще на один пролет. Здесь помещались кладовые. В конце коридора он увидел деревянную лестницу, которая вела на крышу. Как только он вышел, сразу увидел ее – она стояла, опершись о каменную балюстраду, и смотрела на устье Гранд-канала, площадь Сан-Марко и Кампанилью. Он улыбнулся, заметив, как солнце играет в ее кудрях; вечерняя заря превратила ее в позолоченную богиню, которая смотрит на город плотских удовольствий. Она стояла в шелковом пеньюаре цвета моря и песка; ветер с Адриатики прижимал к ней переливающуюся ткань, и все очертания фигуры были отчетливыми, как у мраморных статуй в галерее Уффици. Зрелище было прекрасным. Как ему ни хотелось раздеть ее сейчас же и заняться любовью здесь же, с видом на город, раскинувшийся под ними, февраль – неподходящий месяц для подобных капризов.
Когда он вылез на крышу, она обернулась, и ее улыбка была теплой, как солнце, заблудившееся в ее волосах.
Он улыбнулся в ответ; он не был властен над своей реакцией. И над приливом радости. «Моя», – говорило его тело. «Слава Богу», – подхватывал разум.