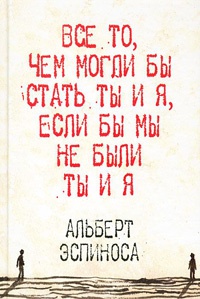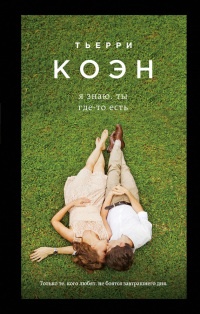Книга Мое имя Бродек - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сходив в трактир, я узнал не так уж много, кроме того, что, благодаря этим надушенным кусочкам картона, Андереру удалось еще больше привлечь к себе всеобщее внимание. Еще не было семи часов, но уже не ощущалось ни малейшего движения воздуха. Даже ласточки в небе казались изнуренными и летали медленно. Только одно облачко, очень маленькое и почти прозрачное, похожее на лист падуба, фланировало очень высоко в небе. Не слышно было даже животных. Петухи не кричали. Куры притихли и неподвижно сидели, ища хоть какую-то прохладу в пыльных ямках, выкопанных в земле заднего двора. Кошки дремали в тени подворотен, валяясь на боку, вытянув лапы и чуть высунув язык из приоткрытой пасти.
Проходя мимо кузницы Готта, я услышал внутри дьявольский шум. Это Готт наводил там порядок. Заметив меня, он махнул рукой, чтобы я остановился, и направился ко мне. Кузница была на отдыхе. В горне не горел огонь, а сам Готт был вымыт, побрит, причесан. Сняв свой неизменный кожаный фартук с голых плеч, он облачился в чистую рубашку и длинные брюки с подтяжками.
– Что скажешь на все это, Бродек?
Я без большого риска пожал плечами, потому что и в самом деле не знал, что он имел в виду – то ли жару, то ли Андерера, то ли пахнущий розовой водой пригласительный билет, то ли что-то еще.
– Точно тебе говорю, это еще рванет, да так, что мало не покажется, можешь мне поверить!
Готт говорил, сжимая кулаки и играя желваками. Его растрескавшиеся губы двигались, словно напряженные мышцы, а огненная борода напоминала неопалимую купину. Он был выше меня головы на три, и ему приходилось наклоняться, чтобы говорить мне в ухо.
– Не может это дальше так продолжаться, и не один я так думаю! Ты ведь учиться ездил, смыслишь в этом больше нас, так как, по-твоему, это закончится?
– Не знаю, Готт, надо дождаться сегодняшнего вечера, тогда и посмотрим.
– Почему сегодняшнего вечера?
– Ты ведь тоже получил приглашение, как и все мы, ровно на семь часов.
Готт отступил и уставился на меня, как на сумасшедшего.
– С какой стати ты приплел сюда приглашение, когда я тебе о солнце толкую? Оно уже три недели жарит нам голову! Я даже работать не могу, так задыхаюсь, а ты меня морочишь какими-то приглашениями!
Чей-то стон, донесшийся из кузницы, заставил нас повернуть головы. Это потягивался, зевая, тощий, как гвоздь, Онмайст.
– Вот кто опять самый везучий, – заметил я Готту.
– Насчет самого везучего не знаю, но самый ленивый – это точно!
И словно подтверждая правоту кузнеца, у которого нашел себе пристанище, пес положил голову на лапы и преспокойно заснул.
Это был еще один день того лета, которое поджаривало нас на большом огне. Но день особенный, словно пустой внутри, словно его сердцевина и его часы не имели никакого значения, и только вечер стоил того, чтобы о нем думали, ждали его, тянулись к нему. Помню, что в тот день, вернувшись из трактира, я не выходил из дома. Работал, наводя порядок в своих записях, которые месяцами делал, об эксплуатации наших лесов, об их общей кубатуре, о рубках, уже сделанных и о тех, что предстоит сделать, об обновлении и лесопосадках, о строевых деревьях, которые неплохо бы вырубить в следующем году, о распределении прав на вырубку, о необходимых изменениях. Я устроился в подвале, чтобы найти хоть немного прохлады, но даже в этом месте, где обычно стены сочатся ледяной влагой, обнаружил только липкий спертый воздух, едва ли более прохладный, чем в комнатах. Временами я слышал над головой смех Пупхетты, которую Федорина посадила голышом в большую деревянную лохань, наполненную прохладной водой. Так она часами играла в рыбку, и ей не надоедало, а рядом с ней, положив руки на колени, сидела у окна, в котором ничего не видела, Эмелия и все тянула свой меланхоличный припев.
Когда я поднялся из подвала, Пупхетта, сухая, вытертая, вся розовая, ела из большой тарелки прозрачный суп, бульон из морковки и кервеля.
– Уходишь, папочка? Уходишь? – бросила мне Пупхетта, завидев, что я собираюсь уходить. Она слезла со своего стула и побежала ко мне, чтобы броситься в мои объятия.
– Я скоро вернусь. Поцелую тебя в постельке, будь умницей!
– Буду умницей! Буду! Буду! – повторяла она, смеясь и кружась, словно в вальсе.
О, малышка Пупхетта… Некоторые скажут тебе, что ты никчемный ребенок, дитя грязи, порождение ненависти и ужаса. Некоторые скажут тебе, что ты отвратительна и зачата в мерзости, что ты дитя позора и была осквернена еще до того, как появилась на свет. Не слушай их, умоляю тебя, моя малышка, не слушай их. Я говорю тебе, что ты мое дитя и что я тебя люблю. Говорю тебе, что гнусность порой рождается из красоты, чистоты и прелести. Говорю тебе, что я твой отец навсегда. Говорю тебе, что прекраснейшие розы вырастают порой на гноищах. Говорю тебе, что ты заря, завтрашний день, все завтрашние дни, и важно лишь то, что делает тебя обещанием. Говорю тебе, что ты моя удача и мое прощение. Говорю тебе, моя Пупхетта, что ты – вся моя жизнь.
Я закрыл дверь одновременно с Гёбблером, закрывавшим свою. И мы оба так этому удивились, что оба посмотрели на небо. Наши дома естественным образом темные. Они скроены для зимы, и, даже когда снаружи все залито солнцем, внутри приходится подчас зажигать одну-две свечки, чтобы что-то рассмотреть. И я ожидал, выйдя из своих потемок, обнаружить яркое солнце, которое уже не одну неделю было нашей неизменной повседневностью. Но небо выглядело так, словно на него накинули огромное, тусклое, серо-бежевое покрывало, изборожденное черноватыми разводами. На горизонте ближе к востоку гребни Хёрни тонули в густой металлической магме, вздувавшейся какими-то дряблыми гнойными нарывами и словно удушавшей все вокруг, постепенно спускаясь все ниже и грозя раздавить и леса, и крыши домов. Временами живые мраморные прожилки прочерчивали тестообразную массу и на мгновение освещали ее неестественным желтоватым светом, но эти неудавшиеся или сдержанные молнии не порождали никакого громыхания. Духота стала густой, вязкой и хватала за горло, словно рука злодея, желающего раздавить его наверняка.
Едва миновало это первое ошеломление, мы с Гёбблером оба пустились в путь. Как автоматы, одинаковым шагом мы двигались бок о бок по дороге, припорошенной пылью, которая в этом странном свете была похожа на березовую золу. Вокруг меня витал запах куриного помета и перьев, тошнотворный, гнилостный, напоминающий запах подгнивших цветов, забытых в вазе на многие дни.
У меня не было никакого желания говорить с Гёбблером, и это молчание меня не тяготило. Я был готов к тому, что он в любой момент может начать разговор, но ничего такого не произошло. Так мы шли по улицам, будто воды в рот набрав, будто направляясь в церковь на заупокойную службу перед похоронами, когда знаешь, что перед лицом смерти все слова тщетны.
По мере того как мы приближались к трактиру, из улиц, улочек, переулков, ворот выходили молчаливые силуэты и, присоединившись к нам, шли рядом. Впрочем, возможно, что это тягостное молчание было вызвано вовсе не перспективой обнаружить то, что будет нам показано в трактире, но внезапным изменением погоды, жирной металлической пеленой, затянувшей небо и засеявшей конец того дня зимней мглой.