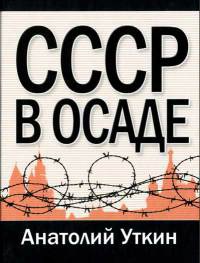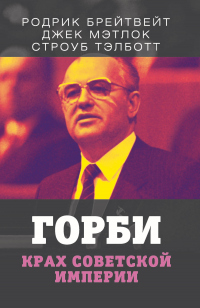Книга Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917-1991 - Наталия Лебина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В качестве сугубо домашнего, почти семейного развлечения игра в карты, конечно, продолжала существовать. У людей старшего поколения, особенно у интеллигенции, она ассоциировалась с бытовыми практиками прошлого, некой мини-салонной жизнью, которая протекала до революции практически во всех домах среднего слоя горожан. Художник Владимир Курдов, сын земского врача из Перми, приехав в Ленинград в середине 1920‐х, какое-то время снимал комнату. Хозяева, принадлежавшие к старой петербургской интеллигенции, явно не хотели менять устоявшихся привычек. «Мои немолодые и бездетные хозяева-супруги оказались добрыми людьми, – вспоминал Курдов. – Мужа можно было видеть только по утрам, ежедневно он играл в карты в компании нейрохирурга Поленова, где, кроме того, по субботам танцевали. Его жена, полуфранцуженка, была также пристрастна к преферансу, и в нашей квартире играли каждую неделю»473. Менее светская семья поэта Вадима Шефнера даже на рубеже 1920–1930‐х годов также собиралась за картами. Мать и тетка писателя любили «расписать пулечку», когда к ним приходили нечастые гости. Игры на деньги никогда не было, основное за карточным столом – это беседа, воспоминания о прошлом474. Карты сопровождали и досуг родителей учительницы Софьи Цендровской, отец которой был мелким служащим, а мать – домохозяйкой. Старая петербурженка вспоминала: «У наших родителей были три хорошо знакомых семьи, которые иногда приходили к нам в гости, и мы ходили к ним в гости. Когда все встречались у кого-нибудь дома, всегда пели русские народные песни И обязательно играли в карты, в „девятку“»475. И в среде пролетариев в годы нэпа, как зафиксировали социологи, были распространены карточные игры. В 1923 году они занимали в досуге рабочих столько же времени, сколько вместе взятые танцы, охота, катание на лыжах и коньках, игра на музыкальных инструментах, в шахматы и шашки.
Возобладавшая в начале 1930‐х политика наступления на приватное пространство отразилась и на отношении к картам в быту горожан. Эта форма досуга стала рассматриваться как времяпрепровождение, граничащее с криминалом. Бюро ЦК ВЛКСМ в августе 1934 года приняло специальное постановление «О борьбе с хулиганской романтикой в рядах комсомола», где «картеж», стоящий в одном ряду с пьянством и хулиганством, характеризовался как пережиток прошлого в социалистическом обществе476. Это решение не нашло ответной реакции на бытовом уровне. Карты перешли в ту сферу культурно-бытовых практик, где в период большого стиля успешно действовала система двойных стандартов. Ничего не изменилось и позднее: и в годы десталинизации, и в период застоя обыватель с удовольствием перекидывался в «картишки» на пляжах, в поездах, а иногда играл и по-крупному на частных квартирах.
Для обычных людей власть оставила лишь официальную азартную игру – денежно-вещевые лотереи. Они начали регулярно проводиться в СССР с середины 1920‐х и стали источником получения доходов от населения. Первый розыгрыш разнообразных предметов на всесоюзном уровне был организован в 1925 году по инициативе детской комиссии при ВЦИК СССР. С 1926 года инициаторами разнообразных лотерей выступали добровольные общества: «Долой неграмотность», «Друг детей», Автодор и чаще всего Осоавиахим. Эта организация с 1926 по 1940 год инициировала 14 вещевых лотерей. Разыгрывались в них глиссеры, тракторы «Холт», легковые автомобили «Форд», а также велосипеды и фотоаппараты. Лотерейные билеты распространялись в добровольно-принудительном порядке. С этим приходилось мириться. Но в годы войны народ принимал участие в четырех лотереях с большим подъемом, ведь деньги шли на оборону. Разыгрывались вещи скромные: кровати, платяные шкафы, пальто.
С 1945 по 1956 год лотереи не проводились и возобновились лишь в связи с Фестивалем молодежи и студентов в Москве. С этого времени государственные вещевые розыгрыши стали нормой в советском быту. Участвуя в лотерее, теоретически можно было при должном стечении обстоятельств за ничтожную цену билета получить дефицитные в 1950–1980‐х годах вещи: машины «Волга», «Запорожец», «Москвич», пианино, холодильники, стиральные машины. Но лотерейное счастье мало кому улыбалось. Это понимали многие советские люди, а главное, сами организаторы розыгрышей, внедрявшие в быт практики принудительного распространения билетов. Многим памятна реплика управдома в исполнении Нонны Мордюковой из фильма Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969): «Распространите (билеты. – Н. Л.) среди жильцов нашего жэка. А если не будут брать, отключим газ». Не менее выразительным был и ее диалог с продавцом билетов: «Кто возьмет билетов пачку, тот получит…» – «Водокачку!», свидетельствовавший о шансах на успех в лотереях. Превратив вещевые розыгрыши в бытовую норму жизни в СССР, власти все же периодически делали попытки «сохранить лицо» и приостановить разраставшуюся систему государственно разрешенного азарта и выкачивания денег из населения. В начале 1960‐х годов они всячески старались затормозить появление «Спортлото», чистый доход от которого за два-три года по прогнозам должен был достигнуть 60 000 000 рублей в ценах 1961 года. ЦК КПСС в 1963 году в ответ на настойчивые просьбы Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР заявил, что «предполагаемые денежные доходы не смогут оправдать морального ущерба, который был бы нанесен воспитанию молодежи и других слоев населения нашей страны»477. «Спортлото» все же начало действовать в 1970 году. В 1974 году ЦК КПСС вернулся к рассмотрению вопроса о пользе и вреде спортивных лотерей. Выявлены были и недостатки и злоупотребления – хищения в размере 100 000 рублей, но «Спортлото» продолжало существовать, на что в скорости откликнулся советский кинематограф: ироничный Гайдай снял комедию «Спортлото-82».
Парадоксальной формой реализации соблазна и азарта в условиях советской действительности явились государственные выигрышные займы. Авторы «Толкового словаря языка Совдепии» почему-то относят самое слово «заем» к неологизмам советского времени478, хотя получение государством денег от населения «в долг» на определенных условиях достаточно распространенная практика. «Советскость» займов в России 1917–1991 годов выражалась в их добровольно-принудительном характере. Но эта черта появилась не сразу. Государственные выигрышные займы впервые провели в новой России в 1922 году. К этому времени большевистское правительство вынуждено было отказаться от идеи уничтожения денег. Но для восстановления народного хозяйства оказались необходимы дополнительные средства. Источником их получения могли стать сбережения граждан. Вначале займы носили натуральную форму. Облигации продавались за деньги, а их владельцам государство гарантировало получение определенного количества сахара или ржи. Во времена нэпа все это совершалось на добровольной основе. Но в конце 1920‐х годов ситуация переменилась. Выпуск каждого очередного выигрышного займа становился способом выкачивания средств у населения. Покупка облигаций, или, как это обычно называли, «подписка на заем», была принудительной. Повсеместно на предприятиях люди брали на себя своеобразные обязательства приобретать ценные бумаги на сумму, составляющую их месячный или даже двухмесячный заработок. Сразу такие деньги заплатить было непросто, и поэтому администрация высчитывала их из зарплаты в течение года. Затраты на займы, таким образом, превратились с конца 1920‐х годов в постоянную статью расходов советских людей. Неудивительно, что и фольклор, и художественная литература на рубеже 1920–1930‐х годов отразили эту бытовую практику. Подцензурный литературный нарратив в большей степени сосредоточился на проблеме розыгрышей и выигрышей. В романе Ильфа и Петрова репортер Персицкий уверенно предлагает своим сослуживцам маленькую аферу – образование некоего клуба для приобретения автомобилей за счет реализации облигаций займа 1927 года. Эту смелую идею он мог предложить, потому что знал, что у всех коллег есть приобретенные в принудительном порядке ценные бумаги, а также понимал психологию их владельцев: «Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба»479. Рассказано в знаменитом романе и о том, как организовывались розыгрыши займов в конце 1920‐х годов: «Пароход „Скрябин“, заарендованный Народным комиссариатом финансов, должен был совершить рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение – тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, виртуоз-балалаечник, радиоинженер, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов»480. Сочинители же анекдотов времени предвоенных займов сконцентрировали свое внимание на системе принудительной покупки облигаций: «„Товарищ начальник, подпишитесь на заем“. – „Обратитесь к заместителю, я сегодня в отпуск ухожу и никаких бумаг не подписываю“» (1929)481. Еще любопытнее с точки зрения реконструкции бытовых реалий рубежа 1920–1930‐х являются фольклорные шутки на тему больших очередей в СССР за хлебом, которые иностранцам власти якобы презентовали как очереди желающих подписаться на заем482. Острили и о перспективах возврата денег по облигациям: «„В чем разница между охотничьим ружьем и займом?“ – „Охотничье ружье с отдачей, а заем – без“» (1929)483.