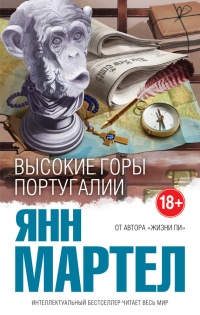Книга Солнцедар - Олег Дриманович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Выкорчевав последний штырь, Ян привалил железяку к стене. Огладил шар головы. Двинул увечной челюстью. Достал из сумки сигареты, спички. Чиркнул, любуясь огоньком. Повторил:
— Все правильно, парни, поняли: удостоверения — дело десятое, и так возьмём, и не завтра — сейчас; подачек не нужно. Предлагается взять то, чего у нас нет, и никогда не было, без чего так и останемся упряжными лошаками. Нет, крысами линять не годится — возьмём с огоньком, сделаем из их сборного пункта угольки. Спалим конкретный сарай с концами, дотла. Голосований не предусмотрено, каждый решает сам — хочет он чухать дальше или как. Желаешь ты, Мурзянов, лямку тянуть, а ты, Никита, жить папиной жизнью — решайте.
— Твою-то ма-ть, — сокрушенно простонал Алик. Вылез из барокамеры, поднял, кряхтя, решётку, втиснул, матерясь, обратно в оконный квадрат. Схватился вдруг за ребра: — Ой ё-ё! — с тяжелым стоном сполз по стенке, сел рядом с Никитой. Продолжил свирепствовать, но уже жалобней, с немощным придыханием:
— На мне лично никакой упряжки нет. Да, полечу обратно. Лучше косить буду! Лямка не лямка — выбора не густо! Спалить сарай? Чё ты кому докажешь, Позгалёв? Откуда выскочишь?
И, выдержав паузу, обратился к своему союзнику:
— Никит, нет, ты понял, под что он нас подводит?!
Позгалёв смотрел на Растёбина с холодным любопытством: поддержит план, нет, — капитан горевать не будет. Всё, что хотел сказать — сказал; теперь — сами. Отстранённый интерес не столько к Никите — к моменту, секунде, которая на его глазах переиначивает чужую судьбу.
Даже безразличием своим продолжает давить, злился Никита. А может, и вправду — придумал я, без надобности ему кого-то жать. И нет у него ничего от римского центуриона — ломаная кацапская картоха. Шлёпнул себе на мозги его превосходство, сам же шлёпнул и протёк. Ведь шанс, шанс выскочить из отцовской упряжки.
Страх или обиды? — пытался он сейчас понять. Понять оказалось проще, чем себе признаться. И ещё эта усталость, ещё это неверие в его дурацкую идею-фикс: полезешь — будет счастье, нет — зряшная жизнь. Не страх уже, а смех.
— Итого, Никита Константинович?
— Итого? Хм… Ты — как мой отец, Ян, такой же, как мой папаша. Оба умеете давить. Тот — своей неполноценностью, а ты, — хрен редьки не слаще, — сверх… Короче, тебе надо вписать нас в свои планы, а я… с чего я должен тебе верить?
— Правильно: ни папе, ни Позгалёву — одному себе. Итого… Заметь, не давлю — интересуюсь…
— Итого, что?
— Решение…
Никита молчал.
— Будем коптеть над задачкой? Простая же: сколько ещё терпилами быть? Мало об нас ноги вытирали? Мои планы? Вы, юноша, о чём? Хотите дальше баранами — никого уговаривать не буду.
— Не давишь? — хмыкнул Никита.
— Во-во, я от стыда уже красный. Сейчас проголосую за «гори оно синим пламенем», — кисло скривился Мурз.
— Никаких голосований, — сухо отрезал Ян.
— А вдруг толку не будет, не сработает твое — «взять»? — Никита смотрел исподлобья, с натужной, преувеличенно дерзкой усмешкой.
— Ещё бы, со спичками против лома. Называется — слону яйца качать, — ядовито поддакнул Алик.
Ян обдал Растёбина зелёной прохладцей глаз:
— Ладно, видать, не особо вам жмёт упряжка-то. И дай бог.
— А о другом ты подумал?
— Без «боюсь» тут не бывает.
— Даже если через «боюсь», там… — Никита кивнул в окно, — ничего мы не изменим.
Позгалёв огладил лысину, устало зажмурился. Произнес куда-то в пол:
— Слушай, уважаешь себя за того барана? Изменил? «Там» и не надо. В себе бы изменить. Не для «там», не для папы, не для барана… Для себя. Страшней, чем барана тащить? А на халяву не бывает. И весь секрет. Всё, рассусоливать больше не буду. Предложил, сейчас — сами, иначе — сметана на дерьме.
Под новую порцию Аликовой ругани Ян встал. Опять стащил решётку с окна, прислонил к стене.
Прошёлся возле барокамеры. Костяшками пальцев выдал по железу бодрую боевую дробь:
— Час вам на раздумья, пока кемарить буду. Нет — полезу один.
Залёг в барокамеру.
Алик перестал кряхтеть, забыл про рёбра, шепнул переполошенно Растёбину:
— Полезет же, дурак. Ёбу дал, свихнулся. Хоть уродов этих зови.
Банка
Барокамера мерно дышала широкой позгалёвской грудью. На губах — узкая полоска-тень, и отсюда, из их угла, казалось, что спящее лицо беспечно улыбается. На свихнувшегося не похож: спокойный сон всё для себя решившего, — видел Никита.
Была усталость, была апатия. Был страх. Прошлые обиды водили змеиными языками где-то в груди. Злость тоже еще держалась: мог бы герой тщательней позаботиться о своём геройском образе, к которому приучил, и который, как от нечего делать, небрежно растоптал; мол сами теперь. Сами, так сами. Поэтому — схорониться, переждать, проскочить. Это сейчас главное — про-с-ко-чить. А там разберемся. Расправлю еще плечи, подрежу тесёмки, лямки, жгуты, упряжки… Наращу самоуважение. Представится ещё случай стать для себя героем. Не уплывет «нормальная, сбыточная». Ещё как бывает на халяву. Про-с-ко-чить, — что выскочить. Только умней. Нормальные герои всегда идут в обход.
— Есть идея, — сглатывая нервно, проговорил Алик, — опустим крышку. Опустим, никуда он не дёрнется. До утра продрыхнет, благодарить будет. Я накрываю, ты защёлкиваешь. Угробится же, идиот. Ну что, делаем?
Никита кивнул.
Дождавшись первых раскатов храпа, встали. Алик, обогнув велотренажёр, подобрался к барокамере со стороны вздетой крышки, осторожно положил лапки на выпуклое железо. Никита присел напротив Яна, метрах в двух, не рискуя глянуть на спящего, боясь, что сомкнутые глаза вот-вот оживут. Потом всё-таки пересилил страх: улыбки, конечно, нет — обманчивая тень, безмятежно-усталое лицо. Мичман кивком дал знак, и крышка медленно пошла вниз. Кронштейны, сжимаясь, тонко пищали, лицо капитана, сантиметр за сантиметром, съедала тень, лицо делалось маской с сухими прорезями глаз, скупой полоской губ, уходило ниже и ниже под чёрную воду. Ломаный нос смыло.
И лег же, не опасаясь, что можем осмелиться, — прямо оглушён своим превосходством. Вишь, как бывает, герой. Не всё по-твоему.
Ба-бах! Бронированная скорлупа грохнулась — Алик не удержал веса. Изнутри — глухие отчаянные удары! Раскинувшись костлявой звездой, Мурзянов навалился сверху, давил всеми своими небогатыми мощами, кричал на Никиту благим матом.
— Закрывай! Защелкивай их, б***дь! Чего ждешь?!
Растёбин потянулся к замкам: «Для тебя же, герой… Мы это для тебя… Проскочишь с нами».
Из кокона шли частые злые бумы. Толстая броня всё скрадывала, звук доносился слабый, жидкий, подземный.
Никита нашарил судорожно крайний слева замок, щёлкнул. Потом — замок справа и, наконец, тот, что посередине.