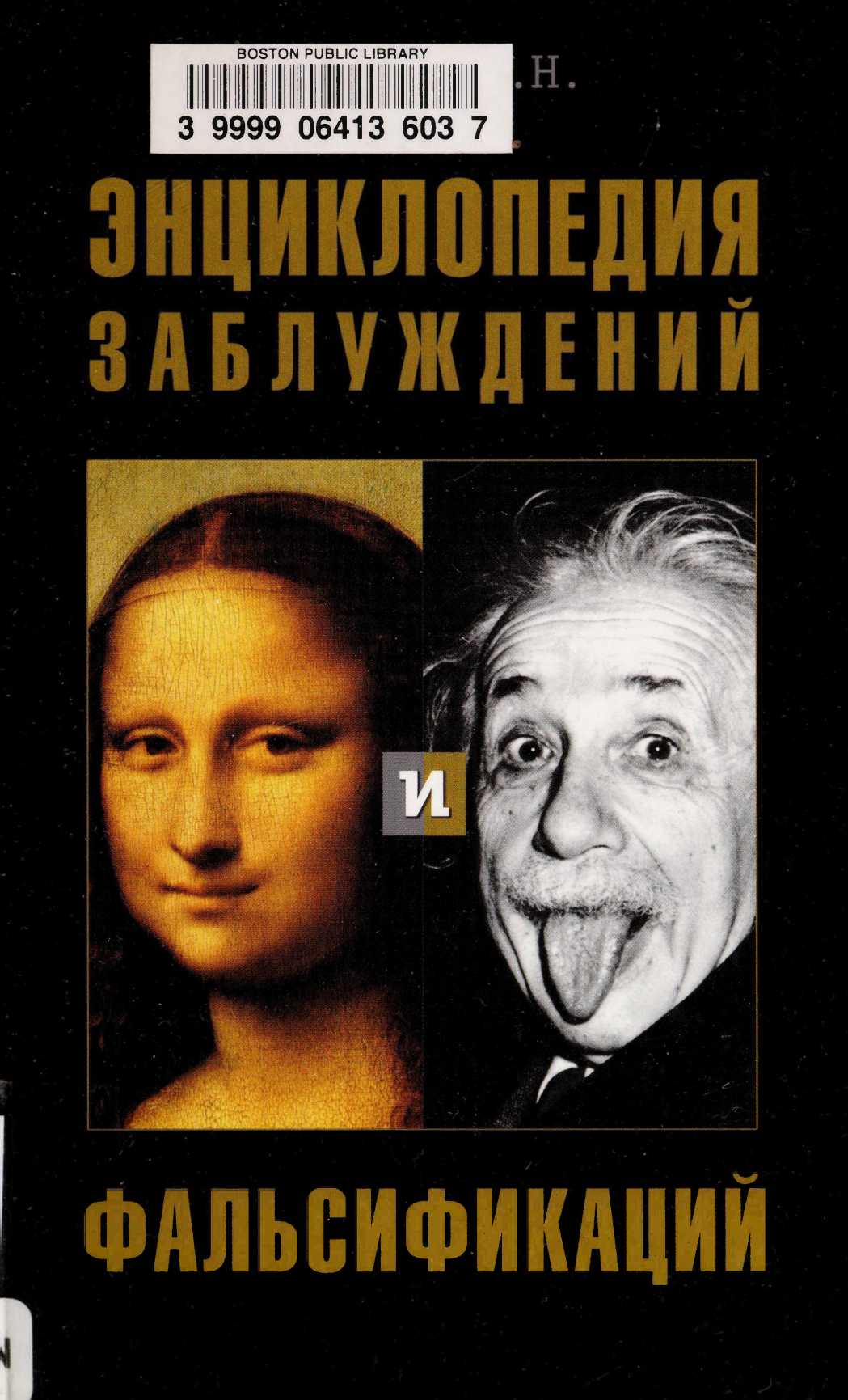Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Только я это произнес, как Зинаида Николаевна сказала, что должна уйти.
— Сегодня пришло письмо. Родители Гаррика (Нейгауза) приедут навсегда в Москву из Елизаветграда. Быть может, даже завтра или послезавтра — из письма не поймешь. Я должна там хорошенько прибраться. Квартира в полном запущении. Очень печально, но я вас покину.
Вот уж разодолжила! Я останусь с ним один. Объяснение неизбежно, сколько бы он ни клялся ей, что не будет говорить на эту тему.
Дверь хлопнула. Она ушла. Борис Леонидович молчал минуты три с плотно закрытым ртом. Но потом заговорил, быстро и безостановочно. Это была обвинительная речь, почти такая, какую передавала мне Зина. Правда, он не сказал, что спустит меня с лестницы. Но то, что он «от меня этого не ждал», «что я не желаю ему счастья» и т. д., было сказано. Было сказано и то, о чем Зинаида Николаевна мне не говорила из женской стыдливости: что я-де «сам в нее влюблен, сам хочу на ней жениться».
Не перебивая его, я дал ему вполне уходиться. Но услыхав два последних его обвинения, не мог сдержать невольной улыбки.
Пастернак снова вспыхнул, но заметно сбавил звучность своего голоса.
— «Да можно и с улыбкой»…
— «Быть подлецом…» — подхватил я. — Так, кажется, у Шекспира?
Пастернак молчал, видимо, не решаясь ни подтвердить, ни отклонить моей догадки.
— Нет, дражайший Борис Леонидович! Позвольте и мне сказать несколько слов себе в защиту. Существует такой сомнительный философский термин «логическая совесть», над которым вдосталь потешался все тот же Г. Г. Шпет. Но я воспользуюсь этим термином в моей {-204-} защитительной речи. Здесь он, пожалуй, сгодится. Так вот: «логическая совесть» благоразумно запрещает мне жениться на матери с двумя детьми-малолетками, поелику я сам почти еще голодранец. Так — по «логической совести». А просто по совести — я никогда и ни при каких обстоятельствах не разрешу себе посягнуть на что-либо вам дорогое. Меня поразило разве то, что вы, достаточно долго меня зная, допустили мысль, в моем случае вполне невозможную, будто я «вам не желаю счастья». Странно, но я на вас не слишком даже обиделся: именно потому, что в вас несколько разбираюсь. Знаю, что вы, при всем вашем уме, не всегда бываете прозорливы. Мы все живем под своей звездой, а вы под своей кометой.
— Как вы красиво умеете говорить.
— Вы, конечно, съязвили? Но поскольку это как-ни как все же комплимент, хотя и не мною заслуженный, я тем поспешнее должен от него отмежеваться. Так Герцен когда-то отозвался о Бакунине: «Все мы живем под своей звездой, а он под своей кометой». Мне неволь но вспомнилось это «bon mot» (удачное словцо) под градом вашей филиппики.
— Выходит, я должен перед вами извиняться?
— Нисколько. Вина на мне. Я, видимо, недостаточно осторожно повел себя в разговоре с Зинаидой Николаевной. Истомившаяся сомнениями, она прямо спросила меня, могу ли я поручиться за то, что ваша любовь «всерьез и навечно» (ее слова). Конечно, было бы куда проще отрапортовать: «Ну, разумеется, могу». Но так сказать язык не повернулся. Я высказался, однако, не менее твердо: «Дорогая Зинаида Николаевна, я знаю только одно, что Борис Леонидович никогда и никого не любил так сильно, как любит вас. А ручаться «навечно» посильно разве Богу и вашему ответному чувству на его чрезвычайную любовь». Похоже это на отговаривание? Судите сами. Но простите, Борис Леонидович, я все же изрядно утомился от нашего сегодняшнего общения. Не {-205-} лучше ли для обеих сторон, не засиживаясь, попрощаться?
Мы простились. И тут Борис Леонидович нежданно поцеловал меня. Но эта непредвиденная ласка меня не утешила. Я остался при убеждении: то, что между нами произошло, было трещиной. И она всегда может углубиться при первом же нелепом недоразумении.
Но хватит об этом — до поры до времени.
4
Как-то раз, в самую раннюю пору нашей близости, — ба, да я отлично помню, что в начале или середине мая 1922 года, за несколько дней или недель до отбытия молодой четы Пастернаков в Германию, где уже проживали родители и сестры поэта, меня окликнул по телефону привычный голос любимого друга:
— Скажите, Коля, но по-честному, в чем я сильнее — в стихах или в прозе?
Этот в упор поставленный вопрос не мог не смутить меня. Изо всей пастернаковской прозы я знал к тому времени только два рассказа: «Апеллесову черту» и «Письма из Тулы», да и то без ведома автора, как я понял. Их дал мне Александр Леонидович, отозвавшись о них как о первых шагах брата в области прозы. Не лучше ли будет и вовсе не поминать о них, чтобы не вызвать не довольства Пастернака?
— Простите, Борис Леонидович, — так начал я свою реляцию, — но я в толк не возьму, о чем вы говорите. Ведь вы никогда не показывали мне вашей прозы. Правда, обещали дать. Но так ведь и не дали.
— Не давал? Быть не может! Да нет, нет! Ваша правда! Видимо, я и впрямь рехнулся от всех этих сборов и споров. Путаю все, что поддается путанью. Позавчерашний день от послезавтрашнего не отличаю. Словом, {-206-} все, за исключением Москвы и Берлина. Типичный случай спорадического умопомешательства.
И вдруг звонок! И входит Костя Локс. Вся наша жилплощадь дыбом! Везде расставлены чемоданы, почти уложенные, но с подъятыми крышками. Ничего этого не замечая, Локс прямиком идет в мою комнату, садится за письменный стол, уже освобожденный от творческого хлама, и начинает говорить о чем-то умном. — Я — ему, что спешу в Наркоминдел за билетами. Локс стал было подниматься с кресла, но тут же прочно на него опустился, обнаружив на столе копию «Детства Люверс», возвращенную Сашей Штихом вчера, поздним вечером. Я еще не успел сунуть ее в стол или в