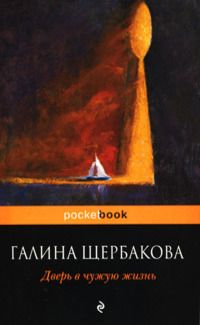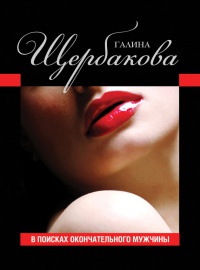Книга Подробности мелких чувств - Галина Щербакова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Странно, но в ту ночь они не говорили ни о ком, кроме себя. Только сначала — жена и катаракта — и все. Потом — как оттолкнулись от берега времени. О чем же был разговор, если почти не спали? Нора стала вспоминать, набирался ворох чепухи. Вспоминали, как она тогда, давным-давно, выходя на поклоны, зацепилась юбкой за шип розы, которые получила другая артистка. Это были единственные цветы от зрителей, и Вера Панина была очень этим горда, хотя все знали: букет принес ее двоюродный брат, но Вера так с ним — с букетом — крутнулась, что зацепила Нору и поволокла за собой. Кто-то тут же придумал плохую примету шип хорошо годился для всяких мрачных умственных реконструкций. Но Вадим того времени предложил другое толкование: роза утащила Нору. Это было время Сент-Экзюпери и его Розы, от него могли идти только хорошие предзнаменования. И теперь можно сказать с уверенностью: тот шип ничего плохого не означал. Еще Вадим Петрович вспоминал в ту ночь, как у него кончились чистые носки и рубашки — конечно, не самое романтичное воспоминание для встречи после долгих лет, но ведь никто еще не научился руководить взбрыками памяти, она ведет себя как хочет. Но получалось, что именно носки и шипы сделали свое дело. Нора сказала: «У меня уже сто лет не было такой родственной близости, такого совпадения молекул». Они лежали обнявшись, у Вадима постанывало, похрипывало горло, а она думала: у него сердечное дыхание, ему надо обследоваться, он себя запустил, и ей так сладко было думать о нем с нежностью. А потом он соскользнулся с балкона, потому что у их истории не могло быть продолжения просто по определению. Не такие они люди… А какие?
И еще Нора думала, что никто ей не предъявил счет за потерю. Ни жена, ни друг-приятель. Как будто все заранее знали, что случится так, а не иначе, и виноватых не будет. Но этот томагочи… Не доставленный неизвестно кому. Он пищал ей все время, она не знала, что делать. «Так я с ума сойду, — подумала Нора, — надо взять себя в руки».
2 ноября
Вот из этих слов и надо понять, в каком она была состоянии. Она даже не заметила, что подъезд ей объявил газават. Иногда что-то бросалось в глаза: мертвое молчание пассажиров в лифте — а какой до этого слышался щебет, пока не раздвинется дверь. Обойденные мокрой тряпкой пределы ее половика в коридоре. По первому разу это показалось смешным. Нора не принимала эти знаки, как знаки войны, как не принимала и подъезд как силу, ей противостоящую. Наоборот, люди всегда демонстрировали ей низкопоклонство, если уж не любовь, во всяком случае с их стороны было должное отношение, как к человеку не простой, а, скажем, изысканной профессии, эдакого штучного товара их подъезда. Все как все, а она вот — артистка. Это было данностью. Поэтому до Норы не доходили разные другие знаки отношения, в голову она не могла их взять.
Однажды Люся со второго этажа, будучи человеком, у которого мысль располагалась ближе всего к кончику языка, а потому на нем и не удерживалась, сказала Норе тихо:
— Я бы на вашем месте постеснялась…
Сказала прямо возле лифта, прямо на смыкании дверей, чтоб не дать Норе ни понять, ни переспросить.
Будь у Норы другое состояние души, она бы запросто могла вставить ногу в притвор, и еще неизвестно, чье слово было бы последним, но со дня падения Вадима Нора существовала в некоем другом измерении. В нем главенствовал четкий выход в ничто, хотя и задвинутый рифленой поверхностью. Но это, выражаясь словами, а по жизни чувств ей все время было зябко. Душевная мука выходила дрожью, ознобом, а однажды она услышала странный звук, стала оглядываться откуда, что? Выяснилось: стучали зубы. Суховато, как стучат деревянные ложки, когда ложкари входят в раж.
Как-то встретила этого молодого милиционера. Забыла, как звать. Он посмотрел на нее обличительно и громко втянул в себя детскую каплю, некстати обозначившуюся.
Она ушла с этим ощущением уличенно-обличенной. «Нашел, дурак, леди Макбет», — подумала Нора, но в душе стало муторно: она чувствовала себя виноватой. Леди такое в голову не пришло бы. Вина виделась так: она слишком много думала о Грише, бывшем мальчике с крутым завитком, который — возможно! — и был тем первым упавшим у ее подъезда. Получилось: она сама создала проект смерти, умственный, гипотетический. И живая жизнь просто обязана была наложиться на ее чертеж. Нора думала, что позвонит еще раз по тому телефону, который знал Гришу, и вот в этот момент Виктор Иванович Кравченко, дернув тонкой шеей, посмотрел на нее так нехорошо. Дело в том, что накануне Виктор Иванович впервые в жизни бил человека. Тип стоял за помойкой, что у детской площадки, с приспущенными штанами, и белая его плоть была столь стыдной и омерзительной, что, когда кулак Виктора Ивановича попал в голое тело, противность мгновенно поползла к локтю и выше и стала как бы захватывать его всего, и тогда, ударяя в этого молчаливо терпящего боль типа, Виктор Иванович стал стряхивать руку, как стряхиваешь термометр. Бил и стряхивал. Бил и стряхивал. Но тут сбрасывалась не ртуть — отвращение.
Потом пришло упоительное чувство успокоения. Все в Витьке размякло, расслабилось, каждой клеточке тела стало вольно. Он смотрел, как убегает этот кретин, на ходу застегивая штаны. Он ведь даже не пикнул, не издал даже малейшего звука, что говорило о правильности и справедливости битья за помойкой. «Рукоприкладство — вещь недопустимая, — говорил капитан-психолог. Но жизнью это не доказано».
Когда Нора прошла мимо, Витек обратил внимание на тонкоту ее щиколок (имея в виду щиколотки). Он представил их, обе две, в обхвате своих широких ладоней и как он держит артистку вниз головой в балконную дырку и она признается ему криком из сползших ей на голову одежд: зачем она их погубила, двух мужиков, молодого и старого. Она признается ему, будучи вниз головой, в преступлении, и все потом поймут, что все было так самоочевидно, а увидел и понял он один. Витек так сцепил кулаки, что в них ссочилась вода и даже, казалось, булькает… Виктор Иванович распластал ладонь — она была влажной, линии судьбы переполнились живым соком и обратились в реки. Особенно полноводной была та, что являла собой долгожительство. С нее просто капало.
3 ноября
«Я ведь никого не стесняю… Я небольшого роста…» Всегда был комплекс, что она вровень с мужчинами, ну не так чтобы сильный комплекс — пришло ведь ее время, время длинноногих, маленькая женщина, можно сказать, потерялась среди женщин-дерев.
На этой же фразе — Нора это ощутила в ногах, как они будто подломились для уменьшения — пришло ощущение (или осознание?): больше никогда никого не стесню. Ростом. Телом. Количеством. Буду жить боком. Левым боком вперед. Чтоб не задеть, не тронуть, не стеснить. Режиссер стал орать, что не этого от нее хотел. Что не нужна такая никакая, живущая боком, ему нужно ее притворство, ее лукавство. Такова женщина! «Никого не стесню» надо понимать как полную готовность стеснить любого до задыхания, до смерти.
— Да? — удивилась Нора.
После репетиции Еремин сказал, что если она с ходу, с разбега не заведет любовника, то спятит, что он это давно видит — с тех самых пор, как начали репетировать, что ее славное свойство не принимать роль всерьез, а просто надевать, как костюм, ей изменило. Она ведет себя, как малолетка-первогодка, выжигая себе стигмы. Кому это нужно, дура?