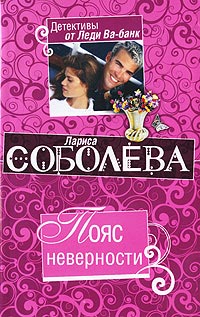Книга Тайна в его глазах - Эдуардо Сачери
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я подождал объяснений. И кем был его кузен? Суперменом?
— Он — тип с традиционными взглядами. Представьте себе. Ну, знаете, какие они, сообщества из глубинки. — Я не знал, но начинал подозревать. — И не думайте, что это приятный и дружелюбный тип. Ничего подобного. Он противный, как ложка соплей, этот мой кузен. И может ужалить, как скорпион. Но есть у него одно преимущество — там он тип важный и уважаемый, и если он скажет четырем или пяти авторитетным людям, что вы под его защитой, можете не беспокоиться, вас не потревожат даже мухи. А если вдруг произойдет что-то странное, например четверо незнакомцев заедут в провинцию на «Фальконе» без номеров, он сразу же об этом узнает. Если вдруг пёрнет викунья меж Семицветных Холмов, мой кузен будет в курсе через пятнадцать минут. Понимаете, о чем я?
— Думаю, что да.
«Замечательно», — подумал я. Мне придется жить на границе родины и работать на феодального сеньора, что-то вроде того. Но в этот момент мне вспомнилась моя развороченная квартира, и мое тщеславие улеглось. Если рядом с этим типом я буду в безопасности, то уж лучше мне заткнуть свою гордость куда подальше и грести вперед. Я вспомнил тот стыд, который ощутил несколько лет назад за судью Батиста, отступившего и не отважившегося засадить-таки за решетку Романо за то щекотливое дело. Я тоже был трусом. Я тоже дошел до своей границы.
Когда судья проводил меня до дверей, я еще раз поблагодарил его.
— Не за что, Чапарро. Но одно точно скажу: когда сможете, возвращайтесь. Таких просекретарей, как вы, осталось совсем мало.
Я почувствовал, что его слова словно одним толчком возвращают мне мое утраченное «я». Я осознал, что самое ужасное, что произошло за эти восемь дней, которые я уже пребывал в бегах, было то, что я перестал чувствовать, кто же я на самом деле.
— Еще раз спасибо. — Я попрощался, энергично протянув ему руку.
Пешком дошел до станции Оливос. Поезда железной дороги Митре были электрическими, такими же, как на Сармиенто, разница только в том, что они были чистыми, почти пустыми и ходили по расписанию. Но даже эта бессмысленная зависть напомнила мне, как сильно я скучал по Кастеляру. На всех ли беглецов наваливается такая ностальгия по собственному прошлому? На Ретиро я спустился в метро, а затем дошел пешком до пансиона.
— В вашей комнате ждет какой-то тип, — предупредил меня консьерж. У меня подкосились ноги. — Он сказал, будто вы знаете, что он зайдет. Он представился вашим собутыльником в одном из баров, верно?
— Ах, ну да. — Я расслабился и улыбнулся, да так, что консьержа даже удивила моя радость. Сандоваль никогда не меняется.
Он ждал меня, удобно растянувшись на кровати. Мы обнялись.
Я принял душ. Потом мы вышли на улицу и сели в такси, в котором почти не перекинулись ни единым словом.
К сожалению, болезнь и смерть Сандоваля не стали неожиданностью, и у всех нас, кто любил его, было больше года, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Он воспринял это с той же метафизической язвительностью, которую применял ко всему в жизни. Всем, кто хотел его выслушать (из близких ему людей, потому что с остальными он вел себя сдержанно, держал дистанцию), он заявил, что еще никто не смог должным образом оценить полезное действие, которое алкоголь оказывает на его организм, и что он умеет управляться с неуемными дозами. Очевидно, что это головокружительное и безвозвратное физическое падение в пропасть разрушило то священное равновесие, которое ему однажды удалось установить в своих отношениях с виски. Он говорил об этом с улыбкой, и все мы, кто пытался бороться за то, чтобы он бросил пить, благодарили за это снисхождение. А в остальном — все как обычно, он продолжал работать в Суде до самого конца, или почти до самого.
В последние месяцы я часто разговаривал с Алехандрой. Даже больше, чем с ним. Или потому, что нам казались такими дорогими эти междугородные звонки, или же потому, что мы, как нормальные мужики, считали слабостью выказывать свою грусть, но всегда в наших разговорах мы с Сандовалем прикидывались двумя законченными ослами и с точностью судебных экспертов избегали всего личного, старались не показывать своих чувств, избегать меланхолии. Ни я не спрашивал его о болезни, ни он меня о изгнании в Хухуй. Думаю, то, что мы не видели лиц друг друга, когда произносили стандартные, на самом деле ничего не значащие фразы, делало наши разговоры еще более нелепыми, но отказываться от них мы, тем не менее, не хотели.
В общем, я не удивился, когда однажды, в четверг, секретарь передал мне телефонную трубку со словами «оператор, междугородный вызов» и на другом конце провода, сквозь помехи тогдашней телефонной связи, прорвался голос Алехандры, сначала сдержанный, потом преисполненный боли, потом спокойный, может, даже усталый.
Этим вечером состоялось мое первое путешествие на самолете. Странно, как я принял эту неизбежную боль. Хотя у меня было столько времени, чтобы подготовиться к этой новости, но все равно новость ошеломила меня, я и представить себе не мог, что это будет такая сильная и непроходящая боль, боль от потери друга, боль от осознания того, что уже никогда с ним не увидишься.
Буэнос-Айрес с высоты птичьего полета представлял собой потрясающее зрелище. Но едва я ступил на землю, как все раздирающие меня чувства успокоились и теперь я ощущал лишь тупую, ноющую боль. Я не боялся. Не было даже ностальгии. Да и радости по возвращении сюда после шести лет отсутствия я не испытывал. На мгновение на меня навалилось чувство вины: свою мать я не предупредил об отъезде. Во-первых, мне не хотелось терять время. К тому же не хотелось расстраивать мать, а она бы непременно расстроилась, узнав, что я находился в двадцати километрах от ее дома, но так и не заехал ее навестить. Лучше подождать июля, когда она, как обычно во все предыдущие годы, приедет навестить меня.
Таксист не придумал ничего лучше, как всю дорогу болтать о тупых англичанах, которые никогда не смогут завоевать Мальвины, даже если пригонят сюда все свои никчемные корабли. В конце концов я сухо оборвал его:
— Я прошу вас помолчать. Мне нужно отдохнуть. — И чтобы он не принял отсутствие интереса за предательство, я добавил: — Кроме того, я австриец.
Наступила тишина. Пока машина продвигалась вперед по Палермо, меня охватили воспоминания. Почти с удовлетворением я ощутил, что они причиняют мне боль. Меня напугала собственная холодность в последние часы. Может, поэтому я спросил себя, что там поделывает этот выродок Романо. Все еще жаждал уничтожить меня? И это был не самый пустяковый вопрос. От этого зависит, продолжать ли мне жить в Хухуе или нет. Но мне некому было задать этот вопрос. Баес умер в 1980-м. Тогда я не отважился приехать в Буэнос-Айрес, хотя после мести Моралеса и нападения, от которого я чудом спасся, прошло уже четыре года. Что я сделал, так это отправил длинное письмо сыну Баеса. Мне всегда казалось важным, чтобы дети узнавали, что действительно представляли из себя их родители. И кроме этого, без Баеса я чувствовал себя потерянным. Поэтому я решил, что с самолета поеду прямиком на прощание, с прощания на кладбище и с кладбища снова на самолет.