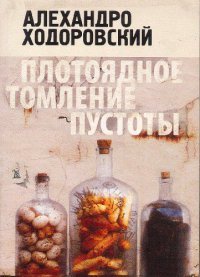Книга Жмых. Роман - Наталья Елизарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…Кривые, скособоченные, опутанные удушающими петлями лиан, деревья выставили нам навстречу целый легион мохнатых пауков и ржавых саламандр: в полной тишине эти маленькие вражеские солдаты спускались по длинным скрюченным стволам, заключённым в пожизненные объятия друг с другом, и, крадучись, пробирались к нам. Лошади наши, утопая в листьях папоротника, похожих на гигантские изумрудные веера, то и дело фыркали: видимо, чуяли затаившихся неподалёку змей… До чего же тяжело продираться сквозь этот зелёный ад! Но начнись сейчас тропический ливень, деревья погрузились бы в воду по самую крону, и тогда бы мы вовсе не смогли тут пройти. Как напоминание о сезоне дождей — пустые панцири больших, величиной с кулак, улиток, с негромким шуршанием трескающиеся под копытами наших коней.
Подпиравшие плотный малахитовый свод, сквозь который едва просачивалось резкими бликами солнце, громадные коричневые столбы расходились книзу неровными, ребристыми корнями, покрытыми зеленью. Здесь было полно всякой живности: хриплые голоса птиц, перемежаясь с беспокойным рёвом обезьян, образовывали нестройный, диссонирующий оркестр. А потом массивные кряжистые великаны сменились тонкими чёрными обрубками, облепленными влажными гирляндами грибов, и в лесу, распаренном томительным тропическим зноем, воцарилась мёртвая тишина… Вытирая вспотевший лоб, я с беспокойством покосилась на Лукаша: «Ты уверен, что мы не заблудились?». «Не беспокойтесь, нинья Джованна, — невозмутимо отозвался он, — к вечеру будем на месте»…
…Когда зелёный шатёр над головой начал темнеть, и серебряным фонарём вознеслась в небо луна, мой провожатый объявил, что теперь осталось недолго. Я мысленно воздала хвалу Мадонне. Сил на более продолжительное путешествие не было. А безмятежно дремлющие, обняв четырьмя лапами ветви, ленивцы[109] и вовсе вгоняли в сон: их косматые пепельные тельца, точно большие мягкие подушки, так и манили приклонить голову…
Убаюканная долгим походом, я едва не рухнула с лошади, когда она вдруг резко встала на дыбы. Короткое угрожающее рычание и сдавленный, плачущий вопль, раздавшиеся где-то рядом, напугали наших коней и взбудоражили лесных обитателей: заголосили проснувшиеся обезьяны, заухал филин, застонали ленивцы… «Ягуар!» — отрывисто бросил Лукаш, вскидывая наперевес двустволку. Я последовала его примеру… И тут сквозь темноту мне удалось разглядеть колеблющееся факельное сияние…
…Воспоминание о том вечере у меня осталось смутное, подслеповатое, будто обнаруженная поутру посреди грязного, неприбранного стола пустая захватанная бутылка: силишься вспомнить и повод, и компанию, а видишь лишь сальные отпечатки пальцев на зелёном стекле…
…Костёр. В котелке, подвешенном к треножнику — похлёбка из черепашатины. Уставшие люди, молча сидящие кружком у огня на жёстких, свежесрубленных ветках, и черпающие из котла большими ложками. Одни ели жадно, захлёбываясь, другие — задумчиво уставясь в одну точку, не спеша щипали чёрствые кукурузные лепёшки и нехотя забрасывали кусочки в рот: челюсти их двигались тяжело, медленно, — видно было, что поглощаемая пища не приносит едокам ни удовольствия, ни насыщения…
…Безучастные, отрешённые лица… худые, острые скулы, обтянутые восковой кожей… ладанки на морщинистых шеях… заскорузлые пальцы, исступлённо перебирающие замусоленные чётки из красного сандала[110]… огромные ручища с грязными ногтями, скребущие нечесаные бороды… блестящие кресты кинжалов за поясом… жёлтые зубы, впившиеся в чёрствые корки… негромкий разноязычный говор… надрывный кашель…
…Плантаторы и капатасы окрестили этих людей бунтовщиками. У меня же язык не повернётся так их назвать. Бунт — это стальная воля и сжатый кулак. Кипящая магма, вспарывающая брюхо земной коры раскалённым ножом. Огненная река, сжигающая всё на своём пути. Горячий пепел и обожжённые, растрескавшиеся камни. Густой погребальный мрак… Но такой взрыв требует огромного запаса ненависти. А у этих людей не осталось ничего, кроме унылого безразличия. Нищета соскоблила с них злость, точно чешую с рыбы. И вот они, выпотрошенные, судорожно хватающие воздух обескровленными губами, лежат на разделочной доске и терпеливо ждут смерти.
…Они и на жизнь-то жаловались как-то нехотя, лениво нанизывая скупые слова на вертел вялого, вымученного разговора. Оно и неудивительно: если каждый день получать оплеухи, привкус крови во рту становится привычным…
…Помню охватившее меня чувство брезгливости, когда я приняла из рук старого парагвайца Лино, кочевавший до этого по кругу, калабас[111] с мате. Долго вертела пузатый сосуд с душистым горячим отваром, не решаясь попробовать. Старик с улыбкой, обнажившей редкие гнилые зубы, пояснил, что настой пятой заварки — самый вкусный. Это я и без него знала: свежезаваренный мате — горек, его практически никогда не предлагают женщине, а вот разбавленный — в самый раз. Но прикасаться к бомбилье,[112] которую до меня обслюнявило полдюжины человек, не было никакого желания. Менсу напряжённо следили за моей реакцией: по здешним обычаям отказавшийся от напитка гость наносил хозяевам страшное оскорбление. Это было равносильно тому, что втоптать каблуком в грязь дружески протянутую трубку мира. С трудом подавив отвращение, я сделала затяжку. Услышав громкое всхлипывающее бульканье, батраки удовлетворённо закивали. Я облегчённо вздохнула: контакт установлен, самое сложное позади… Теперь нужно, чтобы мне поверили. А для этого надо показать, что я с ними заодно. Хотя бы на время. Хотя бы притвориться… И я притворилась.
«Вы думаете, я хочу, чтобы вы прозябали? Чтобы ваши жёны ходили в лохмотьях, а у детей сводило животы от голода? Нет! Мне это не нужно! Я буду рада, если у вас появится всё, что есть у меня…» — произносить эти слова было несложно: я ничем не рисковала, предлагая этим беднягам на мгновение поставить себя на моё место. Если попытаться увидеть себя их глазами, картинка, безусловно, выйдет заманчивой, но неполной. Со дна рытвины, куда их с рождения поселила жизнь, им никогда не разглядеть, чем в действительности обладала стоящая перед ними сытая, холёная и хорошо одетая сеньора. Они лицезрели тряпки, добротную обувь и золотые украшения, огромный дом с прислугой и дорогую машину — то, что можно без сожаления отшвырнуть в сторону. Но не видели подлинного богатства — власти, которой у них не будет никогда.
Ламберти заблуждался, считая её символами револьвер и кнут. Столь грубо и неотёсанно ещё можно было действовать четверть века назад. Но теперь времена изменились. На всякую силу найдётся другая сила. Когда эти измученные, затравленные люди покорно опускают глаза и втягивают головы в сутулые плечи, не нужно обольщаться, что тебя боятся — сыщется какой-нибудь Престес, который взбаламутит скопившуюся за долгие годы в их душах желчь, — и тогда они вернутся с мачете в руках, и вонзят его тебе в спину. Чтобы этого не случилось, нужно заставить их поверить в то, что ты от всего сердца желаешь им добра. Когда человек доверяет тебе — можно брать его голыми руками.