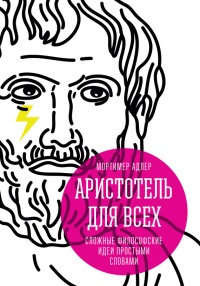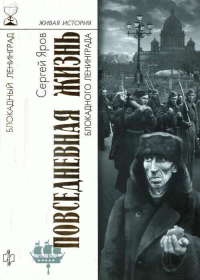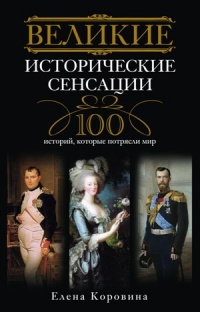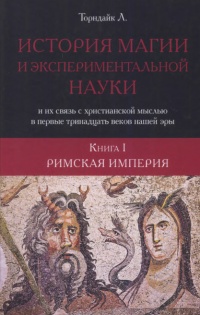Книга Грибоедов - Екатерина Цимбаева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Катенин, Жандр и Чипягов составляли всегдашнее и почти неразлучное общество Грибоедову и Бегичеву. Если бы не присутствие Степана, можно было бы сказать, что их объединяла любовь к театру. Но Бегичев если и интересовался театром, то в самом прикладном смысле, пера в руках никогда не держал, а сочинить хоть один стих не смог бы, вероятно, ни за какие блага. И тем не менее они все время проводили вместе: обедали, ходили в театр и каждый вечер до двух-трех часов ночи засиживались у Шаховского или в квартире Грибоедова с Бегичевым.
В одном только не удовлетворяли Грибоедова новые друзья — все трое не имели склонности к повесничанью и кутежам, по чрезмерной серьезности и высокому о себе мнению. К счастью, в Петербурге не было недостатка в шалунах и буянах. Первым по праву считался лейб-гусарский поручик Петр Павлович Каверин. Это был весельчак и дуэлянт (как это странно сочетается — весело убивать и подставлять себя под пули? — но Каверин сражался на войне и привык не обращать внимания на трупы, просто не думать о них), страшно легкомысленный в денежных делах, жил только в долг без отдачи и принимал участие во всех пирушках и проказах. Под стать ему был Василий Шереметев, кавалергард, сослуживец Бегичева, шалун и ветреник, из знатного и богатого рода, но вечно не при деньгах, в которых родители ему отказывали в наказание за распутство.
Каверин и Шереметев присоединялись к Грибоедову тогда, когда на смену литературным спорам тому приходила охота поозорничать. Бегичев же, по неизменному добродушию, готов был равно охотно и слушать молчаливо разговоры о стихах, и веселиться вовсю в ресторациях. Излюбленным местом их встреч был Шустер-клуб, основанный в прошлом веке разорившимся немцем. В этом заведении пили пиво и портер и играли во все на свете — от карт и бильярда до шахмат. Обыкновенными посетителями здесь были сначала немецкие лавочники и мастеровые. Порой сюда случайно заходили светские люди, поскольку клуб находился прямо напротив Адмиралтейства. Павел I, по свойственному ему недомыслию, решил запретить такие посещения: военных за появление у Шустера сажали на гауптвахту, а гвардейцев могли даже сослать в Сибирь. Нет нужды объяснять, что после павловского указа Шустер-клуб стал моднейшим местом — офицеры, особенно из гвардии, повалили сюда толпами. И в александровское время клуб сохранял свою притягательность, но не столько опасностью наказания, сколько необычностью кухни, обстановки и совершенно несветскими танцами и маскарадами. У Шустера или в ресторане Лореда на углу Невского и Дворцовой площади Александр постоянно сталкивался с другими веселыми кавалергардами, тремя братьями Мухановыми: Петром, Павлом и Николаем, и с совсем юным Поливановым, драчуном и задирой. Он встречался и со старыми друзьями по Москве — Якушкиным, Щербатовым, с их сослуживцем по Семеновскому полку Сергеем Трубецким (с которым когда-то учился в университете, но почти не встречался, поскольку князь Сергей бывал на занятиях от случая к случаю). Во всех гвардейских частях столицы Грибоедова принимали как своего.
Александр связывал людей между собой: без него его компания не только сразу бы распалась, но просто не сложилась бы. Друзья и враги признавали его особенный дар привлекать к себе людей, в полном смысле очаровывать их — умом, веселостью, откровенным обращением. Притом разнородность интересов его приятелей была кажущейся. Все они получили равное воспитание и образование, видное с первого взгляда по осанке, одежде и речи, все читали примерно одни книги, все владели оружием и готовы были при необходимости пустить его в ход. Бегичев не писал стихов — но он их читал и умел высказать о них суждение, недаром он получил прозвище Вовенарг. А повеса Каверин сам пытался сочинять и ценил способности других, даже собирал в отдельную тетрадку лицейские стихи юного Александра Пушкина. Грибоедов не участвовал в битвах, но в его храбрости никто не мог бы усомниться: честь, если она видна из обычных поступков дворянина, проявится им и на поле боя.
Что было причиной внешнего единства молодых дворян?
Их воспитал вальс. Он создал всё их отличие от поколения отцов и всё их сходство между собой. В прежнюю пору столичный свет делился на тех, кто умел танцевать, и тех, кто не умел танцевать. Последние могли достичь высоких чинов, могли быть важными и даже изящными, но в них всегда чувствовалась известная скованность движений, они должны были думать о постановке ног, о красоте осанки — и думать о чем-либо ином у них порой недоставало времени. Только дома, в покойном кресле, они позволяли себе предаваться размышлениям. Поэтому они жили двумя жизнями: дома и вне его. Но даже те, кто умел танцевать, разнились способностями и с детства привыкали быть среди ведущих пар, изобретателей фигур — или среди хвостовых пар, робких подражателей.
Вальс все переменил. Нет человека, который не мог бы ему научиться. Он требует всего нескольких, но безусловно необходимых навыков: особых приемов для борьбы с головокружением, прямой спины, быстроты и четкости передвижения, он учит сохранять внимательность в безумном верчении, дабы не налететь на соседей, и в то же время предоставляет каждую пару самой себе, не ставит их в зависимость друг от друга.
Даже и в наши дни танцоры отличаются безупречной осанкой, которую сохраняют до самой старости, как бы рано ни оставили сцену ради иной стези. В те времена молодежь, по крайней мере в столицах, кружилась в вальсах хоть час или два несколько дней в неделю все годы детства и отрочества. И пусть, став взрослыми, мужчины и не заглядывали в бальные залы, предпочитая им столы для карт и столы для ужина, но вальс накладывал на них неизгладимый отпечаток. Они безукоризненно держались без всякого внутреннего напряжения, и никакая пирушка не валила их с ног — они умели преодолевать головокружение. Они беззаботно и уверенно переносили взгляды окружающих и чувствовали себя равными в кругу равных.
Одна знатная дама тех лет объяснила это очень правильно: «Я часто спрашивала себя, что думают о нас люди, не принадлежащие к обществу, поскольку в своих повестях они всегда стараются изобразить нас совершенно иными, чем они сами. Я сильно опасаюсь, что мы во всем похожи на них, с той лишь разницей, что мы держимся проще и естественнее… Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас — они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них — искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным».
Конечно, естественная простота высшего света ничего общего не имела с невоспитанной естественностью: чесанием в затылке и ковырянием в зубах. То была привычка к хорошим манерам, ставшая второй натурой. Изжить ее они не могли и не пытались — они не замечали ее в себе.
Молодежь этого поколения не чувствовала душевного разлада, который заставляет поворачиваться разными сторонами характера в зависимости от требований среды. В беседах на возвышенные темы, в кутежах, на войне и в любви они оставались в гармонии с собой и с миром. Без внутренней борьбы, без насилия над собой они являлись на утренние учения после ночи дикого разгула; в тюрьме и походе всегда были тщательно выбриты, их галстуки и манеры оставались безупречными на людях и наедине. Они с равным усердием дурачились и сочиняли, размышляли и действовали. Страсти и рассудок — все в них было цельным. Они обладали твердым внутренним ядром, сформированным воспитанием, которое позволяло проходить сквозь любые испытания житейской прозой, молодечества или каторги, сохраняя твердую осанку, ясный взор и — безупречный галстук, как знак касты.