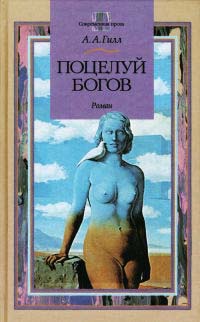Книга Делай, что хочешь - Елена Иваницкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но тут она вздохнула и пошевелилась. Вдруг ей стало гораздо лучше. Открыла глаза. Смотрит и, вижу, узнает. Взгляд прояснел и вдруг словно заметался. Вспомнила. Пытается приподняться. Мы кинулись: «Лежи, не шевелись», а она спрашивает губами, говорить не могла: «Где маленькая? Где папа?» Марта говорит: «Здесь, здесь, сейчас принесу». И побежала. А она повторяет губами: «Папа?» И тут Юджина шепотом и так испуганно, заботливо, но уверенно: «Дедушка здесь, здесь. Он ранен. Он еще в себя не пришел». И так она это сказала, что на меня затмение нашло: значит, это неправда, что отец погиб? И был в затмении еще несколько секунд, пока фельдшер не подтвердил: «Я и оперировал. Вам нельзя разговаривать». Но она еще спрашивает, и рукой просит Юджину снять повязку. Он говорит: «Не шевелитесь. Там ничего серьезного. Перелом есть, но я сейчас вправлю». Взял ее запястье, губами повертел: «Пульс, гораздо лучше. Ровнее, полнее. Сейчас барышне поможем»
Тут Марта маленькую принесла. Глазки трет, разбудили. Фельдшер командует – мне: «Ребенка возьмите!» Марте: «Руки мыть!» Они вышли на крыльцо, Марта полила ему из ковша. Там, слышно, заволновались. Похоже, целая толпа собралась. Я немножко ожил, малышку обнимаю. Он табуретку придвинул к окну, Юджину усадил, Марте велит: «Вот так стоять, вот так за руки держать». И снимает повязку. У меня ноги подкашиваются. Носик сворочен на сторону, личико вздутое, синее. Кажется, впервые себя спросил: что же здесь было? Осторожно – вот упаду – сел возле постели прямо на пол. Она пытается голову к дочке повернуть, но ей не видно. А он командует: «Кулаки сжать, зубы стиснуть, начали». Я тоже кулаки сжал, зубы стиснул. Малышка рядом топочет. Долго или нет, вскрикнула один раз. Он говорит: «Готово, лучше прежнего. Теперь полежать, до свадьбы заживет». Достает из саквояжа фляжку и отхлебывает.
Она еще что-то произносит губами. Не могу разобрать. Она понимала, что умирает, и прощалась. А я не понимал, все еще верил, что ей лучше, потому и слов не разбирал. Не в ту сторону думал. Но дышать стала тяжелее, икота началась, вздрагивает. Фельдшер говорит: могу дать опия. Она глазами показывает: не надо. Маленькая рядом стоит. Она с закрытыми глазами провела ей пальцами по щечке, и вдруг ясно разбираю: «Уведите скорей». Марта сестренку подхватила на руки, но не уходит, стоит у двери. А она вдруг так резко приподняла голову, и кровь изо рта прямо хлынула. И все. А фельдшер говорит: «Феномен природы. Это бывает, что перед самым концом гораздо лучше». И отхлебывает из фляжки.
Наверное, я умом тронулся. Думаю: девочки остались без матери, сейчас останутся без отца, я умираю. Еще думаю: весь в крови. Фельдшер меня за плечо трясет, говорит: а ну-ка отпейте. Я и отпил. Как воду. Не почувствовал, что во фляжке было. Он отодвинул занавеску, там на топчане отец лежал, простыней прикрытый. Простыню откинул, посмотрел, говорит: «Ничего себе». А я думаю: «Как же я ей скажу, она же поверила, что отец жив». И опомнился. А он говорит: «Почему вы ни о чем не спрашиваете?» Повторяю за ним: «О чем?» – «Что произошло, кто это сделал?» А у меня ответ как буквами в мозгу отпечатывается: «Это я сделал». Но молчу. Вдруг Юджина что-то начинает рассказывать, захлебывается. Кое-как понимаю, что она себя обвиняет. Что схватила винтовку, а стрелять руки не поднялись. Тут и малышка закричала. Марта унесла ее. Хочу встать, а в голове мутится, тошнота. Зачем я согласился выпить? Лучше терпеть на ясную голову. Подумал: «Почему тетки до сих пор нет? Что с ней?» А фельдшер еще повертелся по комнате и говорит: «Знаете что, идите-ка отсюда. Мы тут без вас обойдемся».
Приехал староста, испуганный, подавленный. Говорит: «Мы знаем, кто это был. Их скоро найдут». А мне все равно. Ну найдут. Что изменится? Подходит фельдшер. Говорит: «Девочке нужно лежать, она тоже ранена, а что держится, это у нее такая истерика». Соседи уложили у себя. Я сел рядом. Молчу. Ничего не выговаривается. Юджина шепчет: «Давайте скорее уедем отсюда». «Да, да, говорю, да, уедем, уедем». Вечером поставили гробы на телегу, гробы как сами собой появились, и поехали в деревню. Ночевать в этом доме – ни за что. Знали уже, что тетке плохо с сердцем, не встает.
А в деревне же некуда приткнуться. Тем более с детьми и гробами. Но все-таки устроились. Гробы спустили на ледник. Жарко уже было. Девочки на полу легли возле тетки. Она заснула, а то все плакала, задыхалась. А я остался сидеть внизу. Тут же все и спят и выпивают. Со мной пытались заговаривать, что испытание, что дети, что надо переносить. Но я сказал, что не могу не отвечать, ни слушать. Так и сидел. Кажется, и не думал ни о чем. Смотрел в окно, там все равно ничего не видно.
Уже глубокой ночью в окне огоньки. Вошел староста, пробирается ко мне. Говорит на ухо: «Поймали, выходите». И куда-то мгновенно исчез. Выхожу, там двое с фонарями: «Пошли, говорят, быстро». Спускаемся в лощину за деревней. Костер горит. Человек тридцать. Даже больше. Фонари, факелы. Жутко. Под ногами лежат четверо. Связанные. Меня не то что пропускают, а подталкивают. Стою над ними, смотрю. Крепко избитые. Один совсем мальчишка, лет восемнадцати. И я его раньше не раз видел, но не помню, кто это. Тихо стало. Говорю: «А пятый?» И мне рассказывают. Узнали, вытряхнули из этих: пятого она ранила, ему вроде показалось легко, а потом в седле растрясло, что ли, кровь потекла. Эти не смогли остановить. Он был уже мертвый, когда их нашли. «Жаль, не всех», – сказал. Мальчишка хрипит: «Я не хотел, это не я!» Другой: «Она первая начала стрелять!» Стоящие поближе бьют их сапогами в зубы. И крик, ругань. Из крика начинаю понимать такое, что волосы на голове шевелятся. Что их повесили бы сразу, но привезли для меня. Чтобы я отвел душу, сам их прикончил. И топор протягивают. Думаю: с таким началом они город не построят. Еще думаю: а мне все равно, построят или нет. Но сердце сжимается: нет, не все равно. Здесь будет не город, а резня. Схватил топор, бросил, наступил на него и кричу как бешеный, перекрикиваю: «Судить! Их нужно судить!» Стихло немножко. Голоса: «Чего их судить. Это они, это точно. Давай! Они сами друг друга поубивали, мы свидетели». Нет, повторяю, нет, нет, нет, не позволю. Судить! Нарастает гул. Не нужно их судить. Эти будут все валить на пятого, дешево отделаются, а нам здесь таких не надо. Давай! А я как медведь головой мотаю: нет, нет, нет, не позволю. Судить! На минуту тишина, только эти кряхтят и стонут, и сразу крик: «Судить? Чтобы девочка рассказывала, что они с нею сделали? Руби, а то мы их в костер бросим». И хвороста подкладывают. Я задохнулся, прямо завыл: «Нет, нет, нет! Вы что, не понимаете, что тогда совсем нельзя будет жить?» – «Можно, – отвечают, – чище станет». И гул уже такой, что вот сейчас бросятся. Кажется, на меня тоже. И как поджигаются один от другого: «Давай, давай!» Кто-то топор из-под ног дергает. Думаю, если я их не остановлю, это конец. Совсем. Не могут девочки жить в такой жизни, где их отец рубит людей или у него на глазах их в костер кидают. Вот что-то такое и стал кричать. Ору на них, они на меня, вместе доорались до того, что протянули время. Шум, люди бегут. Секрет не секрет, а в деревне быстро узнали. Жутко. Что сейчас будет? Вот она, резня. Но ничего не было. В крик ушло. А как ушло, так и ума хватило. Еще покричали, чтоб уж до конца… этих еще попинали, потом подняли, дали воды, кто-то сцепился, растащили, староста возник, и где он раньше был… Всей толпой пошли обратно. Такое во всех безвыходное напряжение. Что делать? Да ничего. Пить. До утра пили. Меня не отпускали. Громко сочувствовали. Осуждали вполголоса: не надо было этих жалеть. Ты мужик или нет? Ну самосуд. Хоть и пожгли бы. За дело. Не отвечал, да от меня и не ждали.