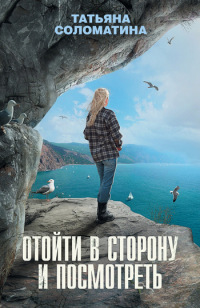Книга Право на безумие - Аякко Стамм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нури замолчала. Молчал и Аскольд. Минуты капали с потолка автомобиля густой, тягучей смолой.
– Ну что ты молчишь?
– Мне некуда идти… Совсем некуда…
– А это меня не касается. Прости, но не я создала такую ситуацию. Любишь кататься, люби и саночки возить.
Богатов сидел неподвижно, словно мумия, положив руки на руль и упёршись взглядом сквозь лобовое стекло в беспросветную, бездонную даль горизонта. Что она предвещала ему, о чём пророчествовала, он не видел, не слышал, не понимал. Впереди, где-то далеко-далеко сверкала его лучистая звёздочка, но расстояние до неё было настолько огромным и казалось настолько непреодолимым, что ближайший, завтрашний день рисовался Аскольду серым, непроглядным туманом.
Нюра почувствовала всю ту тяжесть, которая взвалилась вдруг на плечи мужчины, и её собственная тяжесть несколько отошла, отпустила.
– Аскольд, пойми меня, прошу…, – она повернулась к нему и говорила доверительно, как друг. – Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Но … я всё ещё люблю тебя, и жить теперь с тобой под одной крышей просто не смогу. Эта мука выше моих возможностей. Потому, если не уйдёшь ты, то придётся уйти мне. Вот и решай. Надеюсь, ты всё ещё мужчина?
– Иди домой, – сказал Богатов после непродолжительной паузы. – И прости меня, если сможешь.
На одном из балконов их дома весьма довольный бесхитростным и размеренным течением жизни пил пиво среднестатистический гражданин. Совсем посторонний, не имеющий к теме настоящего повествования никакого касательства. И скорее всего даже не попавший бы в него, если бы именно он по редкой, ничего не значащей случайности не обратил бы рассеянного внимания на то, как через правую дверцу припаркованного на стоянке автомобиля выскочила вдруг заплаканная женщина и спешно скрылась в подъезде дома. Машина взревела мотором и резко, скрипя шинами по асфальту, сорвалась с места. Ещё через мгновение она нырнула за поворот и исчезла. Будто её и не было никогда.
Нюра брела устало по пустынной московской улице. Саднил ушибленный локоть, зияла пустотой, привлекая всеобщее внимание, свеженькая дыра на новых колготках, из больших зелёных глаз текли слёзы. А мимо ковыляли, неспешно прохаживались, шагали нога в ногу, суетились, торопились, неслись как угорелые, оттягивались, растворялись в своей суете, замирали в скорлупе одиночества многочисленные горожане – каждый сам по себе. Она никого сейчас не видела – она никому не была нужна. Ей не было никакого до них дела, и они отвечали ей взаимностью. Они обе – женщина и толпа – пребывали в редкостном симбиозе никомуненужности. Никогда в жизни Нюра не чувствовала себя столь одинокой, столь униженной, раздавленной, опустошённой. Столь же несчастной – да, возможно, может быть… Но настолько выброшенной прочь из жизни никогда.
Давным-давно, ещё в далёком-предалёком детстве она также брела по улице, не ведая ни цели своего движения, ни направления. Нури тогда получила двойку – первую в своей школьной биографии, – ей казалось, что весь мир знает об этом и втихаря показывает на неё пальцем. Такого унижения девочка не в состоянии была вынести, а потому она, закопав дневник в руинах полуразрушенного, предназначенного под снос дома, отправилась обречённо, куда глаза глядят. Впрочем, глаза её никуда не глядели, опущенные к самой земле они видели лишь серый асфальт. А потому правильнее было бы сказать, что она отправилась на все четыре стороны, подальше от родного дома, от родителей, от так неудачно сложившейся, прожитой совсем не как хотелось жизни. Тогда ей было также одиноко, также безысходно как теперь, горе её было огромным, невыносимым, свыше всяких границ, так что оставалось лишь одно – уйти за большое серое здание, которым заканчивалась улица, город, обитаемый человечеством участок земли и, очутившись непременно сразу в заповедном дремучем лесу, стать лёгкой добычей серых зубастых волков. Она не будет бояться, вовсе не станет плакать и звать на помощь, она с готовностью, без сожаления примет свою участь. Уж лучше смерть, чем такая жизнь … с двойкой. Она решилась. Вперёд, за серую пятиэтажку, туда, где определённо заканчивается мир, жизнь.
Вдруг из воспоминаний женщину выхватило одно незначительное, но весьма яркое происшествие. Даже не происшествие, а … Впрочем, судите сами.
Из арки дома, мимо которого она проходила, выпорхнула стая голубей, самых обычных городских сизарей. Их было много, очень много. Птицы плотным роем вылетали из тёмной пустоты провала, поднимались над головами прохожих и кружили, кружили, будто выискивая место для приземления. Нюра подняла глаза к небу и заворожёно смотрела на это кружение, словно видела в нём нечто странное, непонятное, даже таинственное, некогда обычное, но давным-давно забытое и потому кажущееся неправдоподобным. Она не сразу поняла, что именно, но вскоре догадалась. Такого количества голубей Москва не знала уже несколько десятилетий. Женщина помнила, как будучи ещё маленькой девочкой, она врывалась стремительно и восхищённо в мирно гуляющее по просторной городской площади птичье царство, вздымала в воздух напуганную стаю и, жмурясь от восторга, сама ощущала себя птицей в шумном переполохе хлопающих крыльев. Затем, разбрасывая вокруг себя мягкие мякиши тёплого, только что из булочной белого батона, вновь собирала птиц вместе. И те послушно слетались, не пугаясь более человека, жадно склёвывали хлеб с мостовой, даже с рук девочки, чем добавляли ей ещё больше восторга и радости. Только последние годы птиц не стало. Они будто вымерли или покинули в одночасье ставшую вдруг чужой, таящей в себе угрозу, будто зачумлённую Москву. Многое с тех пор изменилось в городе, многое он потерял и, как оказалось, безвозвратно. Но вместе с голубями из него улетучилось, как-то совсем растворилось в суете, вымерло как ненужный анахронизм детство. Её детство.
Птицы покружили с минуту в воздухе и разлетелись в разные стороны, кто куда, будто их и не было вовсе. Сверху на землю смотрело чистое, наливающееся постепенно розовым предзакатное небо. Нюра опустила глаза и вновь погрузилась взглядом в привычную, непробиваемую никакими оказиями, а на самом деле просто смирившуюся со всеми неожиданностями толпу. Казалось, лишь она одна удосужилась видения стаи небесных гостей из прошлого. А может быть, они прилетали действительно только для неё? Как бы там ни было, но жизнь продолжалась, и надо было послушно вливаться в её неспешное, обыденное течение.
Нюра сделала пару шагов вперёд и вновь остановилась. На этот раз её внимание привлёк старинный чугунный фонарный столб, будто специально вырванный какой-то неистовой силой из давно минувшего и поставленный тут на дороге. Возле столба стояла девочка в лёгком ситцевом платьице в мелкую клетку. Её слегка растрёпанные косички, потеряв первозданную правильную форму, грустили не по-детски распущенными, свисающими до попы алыми капроновыми ленточками. И столб, и девочка возле него казались будто спроецированными скрытым кинопроектором из старого кинофильма «Подкидыш». Только ребёнок был на пару лет старше. И… повзрослее что ли. Девочка стояла неподвижно лицом к столбу, будто наказанная, с каким-то недетским терпением и достоинством несущая на себе всю несправедливость, даже предвзятость бездушного мира. Эта сцена привлекала к себе внимание некоей неправдоподобностью, неестественностью, будто вырванная искусственно из совершенно иной ситуации и поставленная тут в угоду взбалмошной фантазии начинающего режиссёра. Нюра оглянулась по сторонам – ни камеры, ни других атрибутов кино-видеосъёмки нигде не было. Московская улица жила своей обычной суматошно-гламурной жизнью второго десятилетия двадцать первого века, в которой не было места ни рудименту чугунного литого столба, ни девочке с косичками, ни самой Нюре. Тогда женщина решительно шагнула в кадр.