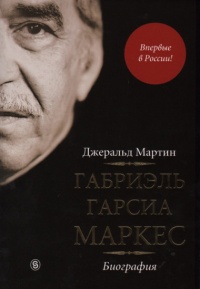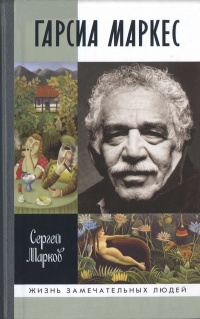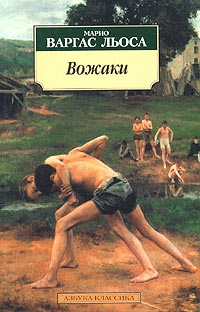Книга Жизнь Габриэля Гарсиа Маркеса - Сильвана Патерностро
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
ФЕРНАНДО РЕСТРЕПО. В какой-то момент его пригласили прочитать курс лекций в Колумбийском университете и в связи с этим выдали специальную визу. Мы с Фернандо Гомесом Агудело в то время в Париже были, для телевидения кое-что делали. Позвонили Габо и решили: «А поедем-ка и мы в Нью-Йорк».
УИЛЬЯМ СТАЙРОН. Мы обменивались воспоминаниями о его любви к Нью-Йорку, и я что хочу сказать: он в тот раз крайне мало пробыл, приехал впопыхах, и уезжать вскоре пришлось — из-за проблем с законом об иммиграции. Ему дали разрешение только на очень короткое пребывание здесь. Но, думаю, одна из причин, послуживших катализатором нашей с ним дружбы — хотя понятно, что и без этого мы точно так же сдружились бы, — это война в Никарагуа в начале 1980-х годов. То была тема очень щекотливая, я бы сказал, даже болезненная и для меня, и для него. Позже, в самый разгар военных действий, я ездил в Манагуа вместе с Фуэнтесом, потому что события те великой скорбью во многих наших соотечественниках отзывались. Не забудем еще и о его дружбе с Кастро — она всегда оставалась очень неудобным фактом. Большинство латиноамериканских интеллектуалов с настороженностью к этому относились.
ПЛИНИО АПУЛЕЙО МЕНДОСА. Фидель — словно оживший миф из времен его детства, новое воплощение Аурелиано Буэндиа. Если желаете найти ключик к его кастромании, то вот он, во все восемнадцать каратов сияет.
ФЕРНАНДО РЕСТРЕПО. Мы с Гомесом Агудело решили на «Конкорде» лететь, незадолго до того они как раз начали выполнять сверхзвуковые авиаперелеты. Мы Габо похвастались, что «Конкордом» полетим, а он говорит: «Я вас в аэропорту встречу». Когда мы приземлились, он нас уже ждал и спросил: «Ну, и как вам „Конкорд“?» А Фернандо ему: «Да то же, что DC-3, только быстрый, как понос». Габо это описание потом в свою колонку вставил.
КАРМЕЛО МАРТИНЕС. Отец у него — консерватор, а он — коммунист. Только с такими деньгами, как у него, не может он коммунистом быть. Денег у него навалом.
БРЭМ ТОУБИН. Сценка из 1982 года, место действия — Каннский кинофестиваль. Я со всеми удобствами расположился на борту парусной яхты «Сумурун», самой красивой яхты из всех, что в тот год в гавани стояли, она принадлежала моему отцу. Я тогда на весенние каникулы приехал, а вообще я в Европе, в Дартмуте учился. Сижу в одиночестве на палубе, а команда и гости — космополитическое сборище из европейцев и американцев — внизу веселятся. Тут на причале появляется какой-то южноамериканец лет сорока и направляется к нашему трапу. Решительный, важный, но видно, что положения невысокого. Нет, на незваного гостя он не походил, я принял его за кого-то из второразрядных актеров. Поднялся он на борт и спросил одну нашу гостью, причем назвал ее по имени, Альбиной. Я ему по-английски объясняю, что она пока занята, но скоро подойдет, и приглашаю к столу: посредине яхты для гостей уже все накрыто было. Вот мы с ним за стол и сели.
Насчет дальнейшего, о чем расскажу, хотел бы заметить в свое оправдание, что Габриэль Гарсиа Маркес в то время еще не достиг той известности, какой пользуется сегодня в США. А начали мы общение с того, что он заявил, будто не знает английского. Я же не говорю по-испански. Мы сошлись на французском, причем я по-французски еле-еле два слова связать могу. Он был неразговорчивым, явно не испытывал восторга от моих потуг оказать ему радушный прием и потому испортил мне настроение; я подумал, что он нарочно кривляется и отделывается дежурными фразами, но, как ни крути, он являлся моим гостем, и я старался выказать ему подчеркнутое расположение и изысканное обхождение, какие к лицу студенту-гринго из самых привилегированных слоев.
Может, нашему диалогу недоставало истинно французской велеречивости или старой доброй сверхуверенности, которую я испытываю при общении на английском, но у каждого из нас, определенно, имелся свой конек:
Я: Где вы родились?
Он: В Колумбии.
Я: Хорошо там, в Колумбии?
Он: Да.
(Неловкое молчание.)
Я: Желаете ли что-нибудь выпить?
Он: Нет.
(Неловкое молчание.)
Я: Наш шеф подготовил великолепные сыры и хлеб. Это нечто несравненное. Желаете ли сыра с хлебом? Восхитительно вкусно, попробуйте.
Он: Нет, благодарю.
(Неловкое молчание.)
Я: У вас фильм на фестивале?
Он: Нет.
Я: Я слышал, «Энни Холл»[104] и «Инопланетянин» — нечто выдающееся… но каждый в своем роде.
(Неловкое молчание.)
Я: Какой сегодня денек славный… чудесный климат… жарковато, но уж гораздо приятнее, чем в Нью-Йорке. Я в Нью-Йорке живу.
Он: Да.
Я: Понравился вам какой-нибудь из фильмов, которые в этом году показывают в Каннах?
Он: «Пропавший без вести».
Я: Я этот фильм не посмотрел.
(Неловкое молчание.)
Я: А «Энни Холл» мне вообще не понравился. Довольно глупый. Нет, правда.
И тут из салона на палубу один за другим поднимаются гости. И я в момент смекаю, что он не какой-то там второразрядный актеришка. Ведь надо знать людей этого сорта, для них льстить и рабски поклоняться — столь же непростительно грешно, как носить велюр, а тут, смотрю, прямо сиропом разливаются, хихикают подобострастно, смущаются перед ним, как дети малые. Я голову ломаю: кто ж это, черт его дери, такой? В следующие дни только и слышу со всех сторон похвалы книге «Сто лет одиночества»… И думаю: вот черт, еще один писатель выискался. Возвращаюсь домой в Штаты, и такое впечатление, что вся страна поголовно роман этот читает. Тут до меня доходит, уже совершенно точно, что вещь эта значительная. Нескольких месяцев не прошло, как ему дали Нобелевскую премию по литературе. И куда ни пойдешь — везде только и разговоры, что о Гарсиа Маркесе. А я помалкиваю. Потом вернулся к себе в университет и решил записаться на курс по творчеству Уильяма Фолкнера. Первое же занятие профессор наш, чрезвычайно сведущий в предмете, уже много лет преподающий курс по Фолкнеру, начинает так: «В этом году Нобелевская премия по литературе присуждена великому Габриэлю Гарсиа Маркесу. Этот современный писатель наравне с Уильямом Фолкнером тонко чувствует атмосферу места. Да будет вам известно, что в настоящий момент, по милости наших архаичных иммиграционных законов, этому громадному литературному дарованию не разрешен въезд в Соединенные Штаты. Стыд и позор. Я многое отдал бы ради того, чтобы провести с этим человеком хотя бы несколько минут». Я затаился. Сижу, руки не поднимаю.
История, из которой мы начинаем понимать, зачем он пишет «Осень патриарха»