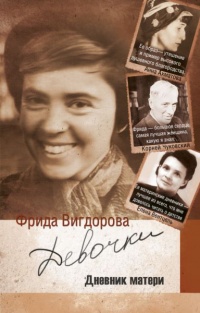Книга Я никогда и нигде не умру. Дневник 1941-1943 г - Этти Хиллесум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Воскресенье [16 марта 1941], 11 часов. В моей жизни понемногу меняется распорядок дня, иерархия действий. «Раньше» на пустой желудок я жадно начинала с Достоевского или Гегеля, а в момент растерянности могла нервно штопать чулок, если уж по-другому не получалось. Теперь день в буквальном смысле слова начинается со штопки, и постепенно, через всякие другие необходимые ежедневные дела я подтягиваюсь к вершине, где снова встречаюсь с поэтами и мыслителями. Если я хочу когда-нибудь создать что-то стоящее — надо срочно избавиться от этого пафоса в моей манере выражаться. Но по правде говоря, я просто ленюсь искать точные слова.
Половина первого, после прогулки, ставшей уже настоящей традицией. Во вторник утром, работая над Лермонтовым, я записала, что позади него все время всплывали черты S. и что я с этим дорогим мне лицом разговаривала, хотела его гладить и поэтому не могла работать. Но это уже в прошлом. Все опять немного изменилось. Сейчас его лицо тоже здесь, но оно больше не отвлекает меня, оно просто стало знакомым, родным фоном. Черты размыты, вижу его нечетко, оно перешло в видение, дух, назовите как угодно. И здесь я столкнулась с чем-то существенным, с чем-то важным. Раньше, если я находила красивый цветок, мне больше всего хотелось его прижать к себе или съесть. Труднее было, если речь шла о прекрасном виде, пейзаже, но ощущение было такое же. Я была слишком чувственной, я бы сказала, слишком настроенной на «безраздельное обладание» тем, что находила красивым. Это была сильная физическая потребность обладания. Отсюда и болезненное чувство тоски, неудовлетворенность, стремление к чему-то недостижимому, что я назвала «творческим порывом». Думаю, эти сильные чувства и навели меня на мысль, что я рождена для творчества, для искусства. И вдруг все изменилось, не знаю, благодаря какому внутреннему процессу, но все стало иным.
Это прояснилось во мне только сегодня утром, когда я вспоминала вечернюю прогулку вокруг Городского катка, что была пару дней назад. Я брела сквозь сумерки: в воздухе нежные тона, полные таинственности силуэты домов, живых деревьев с их прозрачными ветвями, одним словом — красота. И я точно знаю, как «раньше» мне было бы не по себе. Тогда я находила это столь красивым, что начинало болеть сердце. Я страдала от красоты и не знала, что с ней делать. Потом меня охватывала потребность писать, сочинять стихи, но слова никогда не хотели подчиняться, и я чувствовала себя чрезвычайно несчастной. Я была прямо-таки истощена этой красотой, перенасыщенностью, которая отнимала у меня бесконечно много энергии. Сейчас я назвала бы это чем-то вроде «онанизма».
Но недавно вечером я отреагировала не так. Я с радостью обнаружила, как, несмотря ни на что, божий мир прекрасен. Я наслаждалась в сумерках таинственным, тихим видом. Наслаждалась интенсивно, как и раньше, но, как бы это сказать, реальней. Мне больше не хотелось «владеть» им. И, окрепшая, я направилась домой работать. Пейзаж остался на заднем плане, как оболочка моей души, чтобы уж использовать этот красивый образ. Но это больше не мешало мне, не подталкивало к «онанизму», так сказать.
Теперь с S., а впрочем, и со всеми людьми тоже так. Во время того кризиса, когда я, оцепенев, не произнося ни слова, с напряжением смотрела на него, дело, вероятно, тоже было в желании «безраздельного обладания». Он рассказывал мне о своей личной жизни. О жене, с которой в разводе, но с которой все еще переписывается. О его «одиноко страдающей» подруге в Лондоне, на которой собирается жениться. О бывшей близкой подруге, очень красивой певице, с ней он тоже переписывается. После этого мы снова «боролись», и я ощущала сильное влияние его большого, притягивающего тела.
И когда, сев напротив него, я умолкла, во мне, вероятно, происходило нечто подобное тому, что происходило, когда я погружалась в чарующий пейзаж. Я хотела, чтобы он «был моим», чтобы и он тоже принадлежал мне. Однако никакой тяги к нему как к мужчине не было, сексуально он едва ли привлекал меня, хотя некое напряжение присутствовало все время. Но он глубоко тронул мою сущность, а это важнее. Таким образом, желая так или иначе владеть им, я ненавидела всех женщин, о которых он мне рассказывал, ревновала к ним и думала, хотя и неосознанно: «Что же от него остается мне?» Я чувствовала, как он ускользает от меня. По сути, это были мелкие, не высокого уровня человеческие чувства. Но понятно это стало мне только сейчас. Тогда же я была ужасно несчастна и одинока, мне только хотелось бежать от него и писать.
Теперь это «писать» я тоже воспринимаю как некий иной вид «обладания», то есть, приближая к себе вещи словами и образами, все же владеть ими. В этом до сих пор и состояла суть моего стремления писать: тихо уединиться со всеми своими сокровищами, спрятаться от жизни. Записав, сохранить их для себя и таким образом наслаждаться всем этим. И вот эта страсть к безраздельному обладанию — так я могу это для себя лучше всего сформулировать — вдруг исчезла. Разорваны тысячи тесных оков, я дышу вольно, чувствую себя сильной, смотрю вокруг ясными глазами. Теперь, не желая больше ничем владеть, будучи свободной, — владею всем, и мое внутреннее богатство неизмеримо.
S. полностью принадлежит мне, принадлежит настолько, что, отправься он завтра в Китай, — буду чувствовать его рядом, жить в его сфере. Когда в среду увижу его, буду очень рада, но уже не стану с ожесточением считать дни, как на прошлой неделе. И Хана[6] я уже не спрашиваю сто раз в день: «Ты меня еще любишь?», «Ты меня еще действительно любишь?» и «Желанней ли я всех других?» Это тоже была форма цепляния, физического цепляния за нефизические вещи. А теперь я живу и дышу, словно сквозь собственную «душу», если можно еще использовать это дискредитированное слово.
Сейчас мне стали ясны слова S., сказанные во время моего первого посещения. «Что находится здесь (и он показал на голову), должно прийти сюда (и он показал на сердце)». Тогда мне было не вполне понятно, как должен происходить этот процесс, но это произошло. Как? Не могу передать. Он передвинул на нужные места те вещи, которые уже существовали во мне. Все частички лежали вперемешку, а он соединил их в осмысленное целое. Как он это сделал, я не знаю, это его дело, так сказать, его профессия, не напрасно ведь о нем говорят как о «магической личности».
Среда [19 марта 1941]. Ловлю себя на потребности в музыке. Меня нельзя назвать немузыкальной, музыка, когда слышу ее, всегда захватывает меня. Но обычно мне не хватало терпения, отложив все в сторону, специально послушать музыку. Мои интересы всегда были и до сих пор остаются обращенными к литературе и театру, то есть к тем областям, где я могу сама продолжать мыслить. А теперь, на этом этапе моей жизни, музыка начинает сильно притягивать меня, я снова способна забыться, отдаться ей. И прежде всего это ясная, серьезная классика. Мне не по душе раздробленность современной музыки.
9 часов вечера. Господи, помоги мне, дай силы на эту тяжелую борьбу. Его рот, его тело были сегодня так близки, что их невозможно забыть. Не хочу отношений с ним. Хотя все идет к этому, но я этого не хочу. Его будущая жена живет в Лондоне одна и ждет его. Но связывающая нас с ним нить мне тоже дорога. Теперь, постепенно становясь более «цельной», чувствую, что, по сути, я очень серьезный человек, не понимающий шуток с любовью. Хочу, чтобы в моей жизни был один-единственный мужчина, хочу вместе с ним что-то создать. Все прежние многочисленные приключения и романы, в общем-то, делали меня только несчастной и внутренне изорванной. Просто я никогда достаточно серьезно, сознательно не сопротивлялась этому, и любопытство всегда оказывалось сильней. Но теперь, когда силы во мне сконцентрировались, они начали препятствовать и моему авантюризму, и обращенному на многих чувственному любопытству. Собственно говоря, это ведь только игра, и можно интуитивно, не вступая в близкие отношения, почувствовать, что за человек рядом с тобой. Но, Господи, как же это теперь становится трудно. Его рот сегодня был так мне мил и так близок, что я нежно коснулась его губами. И эта по-деловому начавшаяся борьба закончилась тем, что мы покоились в объятиях друг друга. Он не поцеловал меня, только один раз быстро, сильно укусил за щеку. Но самым незабываемым для меня было, когда, вдруг опомнившись, он совсем робко, с почти неловкой застенчивостью и тревожным ожиданием в голосе спросил: «А рот, не показался он вам неприятным?» Вот, значит, это его слабое место. Борьба со своей чувственностью, проявившейся в тяжелом, удивительно выразительном рте. И боязнь этим ртом нагнать на другого страх. Трогательно. Однако мой покой исчез[7]. Потом он еще сказал: «Рот должен был бы быть меньше». И показал на правую сторону нижней губы, которая, описывая дугу, странно выдавалась из уголка рта; кусочек, вышедший из-под контроля. «Встречали вы когда-нибудь что-нибудь такое же упрямое? Ничего подобного никогда не увидишь». Я не запомнила в точности его слова, но затем снова слегка дотронулась до этого упрямого кусочка губы. По-настоящему я его не поцеловала. С моей стороны нет истинной страсти. Он мне бесконечно дорог, и мне бы не хотелось испортить это теплое, глубокое человеческое чувство какими-либо отношениями.