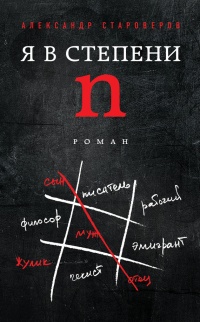Книга Московское наречие - Александр Дорофеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Реставраторы, кажется, упивались таким вавилонским замесом. Впрочем, именовали свой дом и самих себя исключительно по-русски – участок подножий и восстановители.
В первый же день Кузя получил со склада обширно-плоский фанерный ящик, где хранился заклеенный намертво холстом пласт штукатурки из конхи калязинского храма, затопленного в смутные времена. Кто тогда умудрился снять его со стены и что на нем изображено, было неизвестно, поскольку все документы погорели.
Хотелось, конечно, как можно быстрее добраться до росписи, однако идти пришлось неторопливо, ставя на каждом шагу долгие размягчающие компрессы. И Филлипов обучал Кузю не только восстановительным приемам, но и терпению. Показывал, как скальпель держать, чтобы не зарезаться и не содрать всю живопись до штукатурки. «Это все же не нож и не вилка, – наставлял он. – Возьми нежно, как Пушкин брал гусиное перо».
Утро в участке подножий начиналось с Часа умного безмолвия, когда все старались прочувствовать сердцем то, что делают, и вознести молитву какому-нибудь Господу, в зависимости от того, над чем работали.
Иногда, вопреки названию часа, Липатова читала вслух Владимира Соловьева или «Этносферу» Льва Гумилева, Елену Блаватскую или «Жизнь после жизни» Моуди, отца Сергия Булгакова, а чаще «Иконостас» Павла Флоренского, книжный портрет которого очень напоминал Филлипова. О таких лицах сказано коротко – не судите, мол, по ним, братцы. Можно, конечно, не судить, если очень настроиться. И тогда каждое слово, от него исходящее, звучит неожиданно, как дар Божий. «Заклинаю вас, дщери Сионские! – восклицал Филлипов. – Не переварите яйца! Молю, не круче, чем в мешочек…
Позавтракав, садились за преферанс. Еще в раннем детстве бабушки научили Кузю играть в карты, и тогда он легко угадывал любую, извлеченную наобум из колоды. Со временем разучился, но тут вновь кое-что воскресло. Кузя раз за разом играл «семь бубен». И все шутили, как могли: «Бубны дело поправят. Бубны – люди умны. Не с чего ходить, так с туза бубей». Словом, бубнили без умолку. Прежде Кузя и не думал, что он из молчунов, а тут с удивлением заметил – большинство говорит куда чаще и умнее.
За преферансом мысль обостряется, выдавая неожиданные перлы. Профессор дядя Леня, хватанув три взятки на мизере, присвистнул: «Фью-ю-ю! Ну ладно – мир создан словом, а все мы крохотные буковки, звучащие на разный лад». «А я как?» – скромно спросил Кузя. «Ту-у-у-у! – изобразил Лелеков гудок скорого поезда. – Да просто Туз!» И Филлипов уточнил: «Бубей! Бог метит шельму вдруг, без предпочтений!» А Липатова вручила одноименную карту из колоды: «Вот тебе новый паспорт!»
И Кузя принял его благодарно, поскольку данное от рождения имя тяготило с тех пор, как вся страна услыхала про кузькину мать. Не отказался бы, конечно, от Ферапонта, Ануфрия или Мефодия, которым «ф» сообщало величавую мягкость. Но и Туз звучал неплохо, коротко и грозно, как удар кулаком под дых или вскрик бубна, – придавая бравости и лихости. Долго не расставался с этим бубновым «паспортом».
За неторопливым преферансом случались и глубокие беседы о мироздании. «Какая бы наша бесконечная Вселенная ни была, плоская, яйцеобразная или гиперболическая, а в каком, скажите, пространстве она находится? – вопрошал Филлипов. – Что над ней или ниже? Что вокруг!? Каково подножие и где основание?»
Туза тогда поразило, что Вселенная может быть плоской. Еще бы яйцом, даже преувеличенным, куда ни шло, но плоскую, как лист бумаги, не мог представить. Загоревав от непостижимости, впервые напился спиртом. И Липатова, подавая рассол, утешала: «Что такое тело? Всего лишь тень духа, его плоское изваяние! Вообрази себя квадратом, который живет в двух измерениях, долготе-широте, и никогда не почувствует третьего, если оно само не даст знать о себе, подобно тому, как красное смещение от далеких галактик намекает, что Вселенная расширяется».
Эти слова и впрямь отвлекли Туза от телесных мучений, однако взволновался дух. Да тут и Филлипов заговорил об исхождении Духа Святого от Бога-Сына, то есть о «филиокве». А Липатова уточнила, что от некоторых дочерей тоже исходит. И Туз явственно почуял этот идущий от нее волнами дочерний дух.
Липатова, если честно, интересовала его куда больше, чем плоско-бесконечная Вселенная. Хотелось бы получить какой-нибудь намек на возможность нового измерения отношений. Но рядом всегда был Филлипов, сообщавший не к месту, что Господь дает человеку то, чего у него просят. И строятся, мол, прежде всего, башни вавилонские, но не дух, который как раз умаляется. Уже царства мира – чаши переполненные! К чему стремится человек, то и обретает сторицей! Не думает о душе, а только ищет кумира, идола, вождя – и получает… На этом Липатова прерывала, и воцарялась космическая тишина на участке подножий – все погружались в работу, используя куриные яйца для укрепления, а для расчистки спирт-ректификат – «выпрямляющий сердца», по словам Лелекова.
Из этого спирта Филлипов и Липатова, неразлучные, как рабочий с колхозницей, готовили яичный ликер под названием «судья», замораживая потом в холодильнике, так что приходилось ковырять ложками. Липатова ловко била яйца, проникая в зрелое лоно, отделяя белок от желтка. Играючи всколыхивала на ладони нежное райское яблочко, вроде глазного, и вдруг аккуратно пронзала скальпелем, выпуская лучащуюся солнцем йему из съеженной кожицы. После чего Филлипов бурно все взбивал кривым экстрактором для удаления зубов. «Каков орел! – восхищалась Липатова. – Настоящий гоголь-моголь!» Он и впрямь напоминал птицу, но не орла, а редкого черного журавля в кирзовых сапогах и красной ермолке.
Каждый день рождения, а также именины, каковых на одного человека приходилось по нескольку, отмечали тут с раннего утра. Пока профессор готовил легкие, как облака, картофельные оладьи, уже накрывали стол в маленьком дворике, куда вели огромные ворота, через которые выносили когда-то рабочего с колхозницей.
Кроме яблонь в этом райском саду склонялись над столом вишневые, персиковые и гранатовые деревья. И вполне ощущалась нирвана, отделенная от остального мира красной кирпичной стеной Управления пожарных команд. Здесь Туз впервые услышал от Филлипова о «Песни песней». И сразу прочитав – благо, оказалась короткой, – понял, что люди в древности были не глупее нынешних. А главное, чувствовали то же, что и тридцать веков спустя. Чувства не меняются. Или очень незаметно. Например, в сознании Туза «Песнь песней» плотно совпала с учебными свистками брандмейстера. И с тех пор, заслышав пожарных, он неизменно вспоминал царя Соломона: «На ложе моем ночью искал я ту, которую любит душа, искал ее и не нашел».
Туз подзабыл о своем волновом оружии. Пытался раз окатить волной Липатову, но не слишком-то уверенно, стесняясь Филлипова. В общем, волны его тут бездействовали. Либо особняк был так ловко спланирован, либо мешали культовые древности, но они плохо распространялись. Едва зародившись, сразу угасали, кротко всплескивая рябью у женских подножий.
Зато яичный «судья» без разговору бил прямо в голову. Отметив именины и еле успев развернуть желтые поролоновые свитки, восстановители тут же на них засыпали. Ночью огромное пространство, в котором помещался то ли плоский, то ли кубический, то ли все же яйцеобразный их мир, смыкалось через стеклянные стены и потолок с межзвездным. Посапывали Вера, Надя, Люба, бродили тени православных страстотерпцев, буддийских монахов и мусульманских дервишей, и надо всем висели призрачные серп и молот.