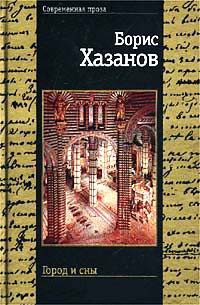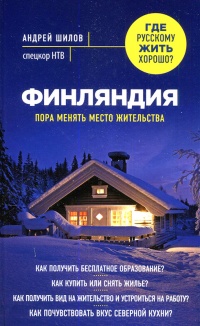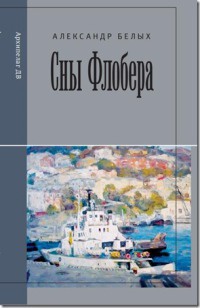Книга Хатшепсут - Наталья Галкина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Нет, — сказал Захаров, — у меня нет такой машинки, как у вас в этюднике. А… барьером вы это называете? — барьер я прохожу иначе. Да, у меня был наставник.
Разговор у нас не клеился. Этому моложавому и на самом деле молодому человеку я затруднялся что-либо рассказать от и до, а он и не настаивал. Он не понимал, что мне нужно. Я не понимал, почему он не понимает. В итоге я оставил ему свой адрес и ушел. Я и сам запутался и не знал — чем он может мне помочь, собственно говоря?..
Так прокантовался я до весны, а весной за мной начали следить. Снег уже почти сошел. Некоторых из них я узнавал в лицо. Они особо не стеснялись и не скрывались. Домой и на работу позванивали. Пасли постоянно. Я решил переехать на дачу, протопить ее и пожить там. Соседи перебирались из города рано. Я надеялся сбить преследователей со следа на вокзале. Мне показалось, что это мне удалось. Электричка была полупуста, я ехал спокойно и даже задремал. От перрона до калитки никто меня не сопровождал. Я спокойно затопил печь, принес колодезной воды, ввернул пробки. От сосен, от недальнего леса, от земли, облаков и от тишины, от потрескивания поленьев и от свиста чайника я впал в эйфорическое спокойствие и благодушие. В сумерки, в час между собакой и волком, последовал телефонный звонок. Незнакомый голос обратился ко мне по имени-отчеству и попросил для начала не бросать трубку.
— Дача ваша окружена, — было мне сказано, — уйти не надейтесь. На неприятности вам нарываться не надо. Вам следует выставить на крыльцо интересующий нас этюдник, после чего мы с вами благополучно забудем друг друга. Вам дается на размышление десять минут. В милицию звонить не надо, да и бесполезно, телефон ваш мы сейчас отключим. Народу вокруг вашей дачи много. Так что не шалите. Мы ждем.
После чего последовал щелчок — и в телефоне воцарилось молчание. Я бросил трубку и побежал на первый этаж, чтобы задвинуть дверь шкафом. Окна были забиты досками и закрыты ставнями. Я двигал мебель и помаленьку воздвиг у двери баррикаду. С улицы в небольшой матюгальник мне сказали: «Ваше время истекло». И я то ли почувствовал, то ли услышал, что они подходят к дому. Они начали отдирать доски с окон. В этот момент наверху опять зазвонил телефон, только что абсолютно мертвый. Я ринулся наверх. С этюдником в руках. Звонил Н. Захаров.
— Что происходит? — спросил он.
— Телефон-то отключен, — сказал я. — А дача окружена. Сейчас они влезут в одно из окон на первом этаже.
— А вы на каком? — спросил он.
— На втором. Подождите, дверь шкафом задвину.
— Не надо, — сказал он. — Игрушка, конечно, при вас?
— Да, — сказал я.
— Положите трубку, сядьте, закройте глаза, успокойтесь, думайте обо мне. Чао.
Я положил трубку, тут же вымершую. Сел. Что мог я думать о нем? Как я должен был о нем думать? Внизу били оконные стекла. Открывали шпингалеты. Распахивали рамы. Я закрыл глаза и представил себе лицо Захарова. В ушах зазвенело. Потом стало тихо и холодно.
— Глаза-то откройте, — услышал я.
Я сидел на скамейке все в том же своем любимом саду. С этюдником на коленях. Но сад был уже не зимний. Белесый туман, сгущавшийся до предела видимости уже в метрах двадцати, обволакивал стволы и аллеи. Даль отсутствовала. Все плавало в млечном мареве. Захаров стоял на аллее передо мной как когда-то уходящий — вернее, отправлявший меня домой — профессор К.
— Час ноль, — сказал я.
— Да.
— А у них есть возможность попасть сюда?
— Нет.
Я сидел как будто отдыхая, этюдник лежал у меня на коленях, и я подумал — а нельзя ли «игрушку» здесь оставить, а самому отсюда уйти? Я еще ничего не знал: смогу ли я выбраться из этого времени (или места?), останусь ли тут один или выручивший меня побудет со мной, я не знал, появится ли кто-нибудь кроме нас двоих на залитых не весенним и не вечерним, а каким-то вечным и страшным туманом аллеях, и есть ли за образом моего любимого сада (или это — сам сад?) город, и могу ли я пересечь границу между садом и городом.
Я ничего не знал тогда. Я даже не знал, жив ли я. Я только смотрел поверх головы стоявшего передо мной на извивающиеся в сыром нереальном воздухе ветви и на исчезающие в облачной мгле кроны кленов, дубов и лип, которые без листьев я не различал: для меня все они были деревья.
Двоюродная восьмидесятилетняя тетушка оставила мне наследство, и я вступил во взаимодействие с вещами и предметами, мало мне понятными, а то и вовсе чужими. Я открывал и закрывал бесчисленные ящички допотопной мебели, разбирал и перечитывал старые письма, выбрасывал рюшечки и пуговки, листал альманахи, уснащенные ятем и ером, — и тому подобное. Со старинных портретов на меня укоризненно поглядывали незнакомки и незнакомцы. Древние ковры окутывали меня облаком пыли.
Желание сбыть с рук лишнее, чуждое мне, овеществленное бытие и привело меня в комиссионный магазин, обретавшийся у черта на куличках, где я и свел поневоле знакомство с любителями старины, коллекционерами, скупщиками и перепродавцами антиквариата, подпольными маклерами и снобами просто. Это был жизненный срез, доселе мне неизвестный, своеобразный мирок, параллельный из параллельных, отличавшийся своими правилами и законами, имевший свой жаргон и свое эсперанто, и без толмача сюда соваться не следовало.
Маленький сероглазый коршун в джинсах снабдил меня телефоном двух братьев-коллекционеров, мы договорились о встрече, и в урочный час в скромном моем обиталище, превратившемся волею судеб в какую-то лавку древностей, появились два совершенно одинаковых лысых человека в белых хлопчатобумажных перчатках.
Открыв им дверь, я ошалел и решил, что у меня в глазах двоится. Зрелище близнецов всегда слегка смущало меня; но когда речь шла о молоденьких девушках в одинаковых новомодных шапочках, я еще как-то примирялся с наблюдаемой моим ортодоксальным взором игрою природы; тут же очам моим предстали люди немолодые, крючконосые, узкоглазые, с карикатурными маленькими ртами, одинаково немигающие, уставившиеся на меня из-под одинаковых очков. В отличие от девочек в тиражированных шапочках они, по счастью, одеты были по-разному.
Как это часто бывает с близнецами, один из них исполнял роль ведущего, другой — ведомого. Ведущего звали Эммануил Семенович, ведомого — Валериан Семенович.
Они рыскали по моей квартире, бесшумные, внимательные, печальные, в одинаковых перчатках, напоминающие криминалистов или врачей, — они ощупывали и выстукивали ручки стульев, ножки диванов, дверцы шкафов и готовы были поставить старому креслу градусник или прописать микстуру. Оба они, и ведущий, и ведомый, принесли по одинаковой огромной лупе в латунной оправе.
Быстрые пальцы бегали по завиткам рам. Братья подносили свои полные грусти лица к лицам старинных портретов, и казалось — изображенные и рассматривающие вглядывались друг в друга, пытаясь понять хоть что-нибудь в ставших для нас привычными и необсуждаемыми тайнах: тайне нейтральной полосы между бытием и небытием и тайне искусства, обманувшего время или впитавшего его в себя.