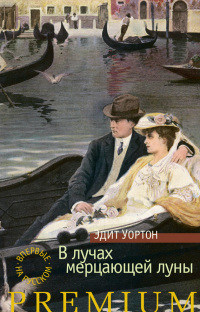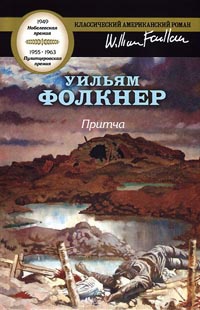Книга Похитители - Уильям Фолкнер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отиса не оказалось и внутри: лишь одинокий временный управляющий в вестибюле, наполовину затянутом чехлами, и одинокий временный официант, помахивающий салфеткой в дверях ресторана, полностью затянутого чехлами, если не считать одинокого столика, накрытого в расчете на таких безвестных проезжих, как мы, – то есть пока еще безвестных. Но Отиса и в помине не было.
– Где он – ладно, – сказал Бун, – а вот что он за это время успел натворить – одному черту известно.
– Ничего! – сказала Эверби. – Он еще ребенок.
– Само собой, – сказал Бун. – Маленький вооруженный ребеночек. Зато когда подрастет и сможет накрасть…
– Перестань! – сказала Эверби. – Я не позволю…
– Ладно, ладно, – сказал Бун. – Пусть не накрасть – наскрести деньжат и купить нож с шестидюймовым лезвием вместо двухдюймового карманного ножичка, вот тогда – захочешь повернуться к нему спиной, напяливай железный комбинезон, ну, какие теперь только в музеях стоят. Мне надо с тобой потолковать, – сказал он ей. – Скоро ужин, а там поезд встречать. И этот жеребец с бляхой вот-вот опять начнет тут ржать и выкобениваться. – Он взял ее за руку. – Пошли.
И тут мне хочешь не хочешь, а пришлось подслушивать Буна. То есть у меня не было другого выхода. Из-за Эверби. Она не желала никуда идти с ним без меня. Мы – они – отправились в дамскую гостиную; времени оставалось в обрез, нужно было поужинать и идти на станцию встречать мисс Ребу. В те времена женщинам не полагалось запросто захаживать в гостиничные номера к джентльменам, как, я слыхал, они делают теперь, даже если на них, как я слыхал, надето только то, что рекламы называют шортами или трусиками, дарующими женщинам ту свободу, которая им так необходима в борьбе за свою свободу; в общем, мне до тех пор ни разу не приходилось видеть в гостинице одинокую женщину (мама не бывала без отца), и, помню, я недоумевал, как это Эверби, не имея обручального кольца, вообще ухитрилась туда попасть. В них, в гостиницах, всегда были эти самые дамские гостиные, вроде той, куда мы сейчас направились – комната поменьше, но еще более элегантная, почти целиком затянутая полотняными чехлами. Но я все еще был на стороне Буна; я остался стоять за дверью, не двинулся с места, так что Эверби хотя и не видела меня, но знала, – я тут и меня в любую минуту можно позвать. Поэтому я все слышал. Нет, слушал. Так или иначе, я все равно бы слушал, зашел к этому времени слишком далеко в искушенности, в постижении жизненной правды, чтобы сейчас остановиться, так же как зашел слишком далеко в краже машин и лошадей, чтобы сейчас выйти из игры. Так что я слышал их – Эверби, она почти сразу опять заплакала.
– Нет! Не надо! Оставь!
И Бун:
– Но почему? Ты же говорила, что любишь меня. Значит, врала?
И снова Эверби:
– Нет, люблю. Потому и не хочу. Оставь! Пусти меня! Люций! Люций!
И снова Бун:
– Замолчи. Перестань.
Потом – с минуту – молчание. Я не смотрел, не подглядывал, только слушал. Вернее, нет: слышал.
– Если только ты меня морочишь, спуталась с этим гадом, с жестяной бляхой…
Потом Эверби:
– Нет! Нет! Не было этого!
Дальше я не расслышал, а затем Бун сказал:
– Что? Покончила? Как это покончила?
Затем Эверби:
– Да! Покончила! Больше этого не будет. Никогда!
Затем Бун:
– А как ты жить будешь? Есть-пить надо? И где-нибудь спать?
И Эверби:
– Найду себе место. Я могу работать.
– Работать? Где? Ты не больше моего обучалась. Чем ты можешь заработать на жизнь?
– Могу мыть посуду. Могу стирать и гладить. Могу научиться стряпать. Что угодно – даже мотыжить и хлопок собирать. Пусти меня, Бун. Прошу тебя, прошу! Мне иначе нельзя. Неужели ты не понимаешь? – Затем топот ног, даже несмотря на толстый ковер, – она убежала в другую дверь. Так что на этот раз Бун меня застиг. Лицо у него было все перекошено. Неду повезло, – всего и изводиться-то из-за скачек.
– Погляди на меня, – сказал Бун. – Погляди хорошенько. Ну, чем я плох? Чем я стал плох, пропади оно все пропадом? Раньше-то ведь она… – Казалось, лицо его вот-вот взорвется. Он начал сызнова: – И почему – я? Почему, черт подери, я? Почему, черт подери, она вздумала с меня начать исправляться? Стерва такая, не понимает, что ли, что она – шлюха? Ей платят за то, что она целиком моя, когда я рядом, все равно как мне платят за то, что я целиком Хозяина и мистера Мори, когда они рядом. А она, видите ли, покончила. По каким-то там личным причинам. Больше не может, ей иначе нельзя. Да нет у нее никакого личного права покончить без моего согласия, все равно как нет у меня без согласия Хозяина и мистера Мори… – Он замолчал, негодующий и растерянный, взбешенный и беспомощный, более того – перепуганный. Теперь в дверях комнаты стоял официант-негр и помахивал салфеткой. Бун невероятным усилием взял себя в руки; Нед, с его единственной заботой – выиграть скачки – знать не знал, что такое настоящие заботы. – Иди позови ее ужинать. Нам скоро на станцию поезд встречать. Она в пятом номере.
Но она отказалась выйти. Так что мы с Буном поужинали вдвоем. Лицо у него все еще было перекошено. Он жевал, как жует мясорубка: не то чтобы охотно или неохотно, а просто потому, что в нее заложили мясо. Немного погодя я сказал:
– Может, он просто в Арканзас пешком пошел. Он сегодня не один раз говорил, что давно был бы там, если бы ему не помешали.
– А как же, – сказал Бун. – Просто пошел пешочком место судомойки ей подыскать. А может, он тоже исправился и теперь они оба попрут прямиком на небо и ни в Арканзасе, ни в другом каком месте задерживаться не станут, а он, может, просто забежал вперед разведать, как бы им незаметно Мемфис проскочить. – Но пора было идти. Я-то уже минуты две видел подол ее платья за дверью, а теперь и официант вошел.
– Два-ноль-восемь, сэр, – сказал он. – Только что прогудел у переезда на первой миле.
Так что мы направились к вокзалу – он был совсем рядом, – все трое в добром согласии, как и полагается людям, нашедшим ночлег в одной гостинице. Я хочу сказать, что мы – они – больше не ссорились; мы – они – могли бы даже мирно разговаривать, беседовать о пустяках. То есть Эверби могла бы, но только если бы Бун заговорил первый. Совсем рядом: надо было всего лишь перейти через пути, и вот она, платформа, и уже показался поезд, и оба они (Бун и Эверби) шли, как бы скованные вместе и в то же время далекие, шли отчужденные, но неразрывно связанные, разъединенные, но неразлучимые ничем, а тем более этим, как считал Бун, капризом: он (Бун), несмотря на свой возраст, был ничуть не старше меня и даже не ведал, что женщинам не более свойственны капризы, чем колебания, или иллюзии, или неполадки с предстательной железой; поезд, паровоз миновал нас, обдав свистящим громом, искрами, летевшими от тормозных колодок; состав, длинный, бесконечный, особо скорый экспресс – багажные вагоны, вагон для курящих, где половина выделена для негров, сидячие вагоны, бесконечные пульмановские и в заключение вагон-ресторан – постепенно замедлял ход; это и был поезд Сэма Колдуэлла, и если Эверби и Отис путешествовали до Паршема в служебном вагоне товарняка, то мисс Реба, безусловно, ехала в салон-вагоне, если не в личном вагоне президента; поезд наконец остановился, но ни одна дверь не открылась, не показался ни один носильщик в белой куртке или проводник, хотя Сэм, конечно же, должен был высматривать нас; и вдруг Бун сказал: