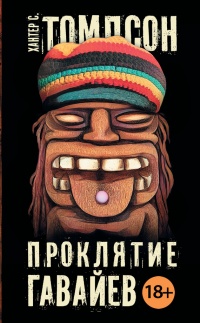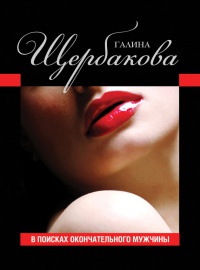Книга Ничья длится мгновение - Ицхокас Мерас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Цветы? Да, — говорит женщина, — пионы. Я ухаживаю за ними, и они каждый год хорошо цветут, даже нынче.
Эстер смотрит на красные головки пионов пристально, будто в первый раз увидела.
Женщина засуетилась, захлопотала.
Вот так хлопотала она и раньше, когда подавала на стол хлеб, обернутый рушником, и кринку молока. Теперь у нее в руках короткий нож с деревянной ручкой. Вот она уже под окном, выбирает пион — самый большой, красивый, с ровными пурпурными лепестками.
— Не надо! — кричит Эстер. — Пусть цветет, не надо!
— Не надо, — говорю и я. — Нам еще далеко, все равно завянет.
Женщина не слушает нас. Она срезает самый красивый свой пион и подает Эстер. Эстер берет цветок, прижимается к нему щекой, потом гладит им мою щеку и возвращает пион женщине.
— Поставьте в воду, — просит она. — В какую-нибудь вазочку или банку. У нас впереди дальняя дорога, и цветок обязательно увянет. Мы заглянем еще в ту усадьбу, потом в избушку у леса, тогда уж в обратный путь.
Женщина берет цветок. Она молчит и смотрит на нас, слегка прищурясь.
— Не ходить бы вам к тем… под железной крышей. Лучше сразу туда, к лесу.
Мы все понимаем.
— Спасибо… Спасибо вам… — говорит Эстер.
Женщина кивает нам на прощание.
Мы идем дальше.
— Две машины? С людьми? — переспрашивает старушка хозяйка.
Мы только киваем в ответ.
Это последний дом, что на самой опушке леса.
— Были, были… — говорит старушка. — Видела, как не видеть…
— И такой светлый парень…
— Светлый? Был, был, — подтверждает она.
Мы ждем. Ждем…
— Тут, совсем рядом дело было, — рассказывает старушка. — Светлый парнишка выскочил из машины, за ним еще один, темный мужчина. Машины быстро мчали, очень уж быстро. Те двое на большак упали, а немцы стрелять затеяли, убили обоих. Машины малость проехали и остановились; солдаты подошли, скинули их в кювет и покатили дальше. Было дело… Может, брат он вам, этот светлый парнишка, или кто? Сразу-то поглядеть боялись мы. Такие времена теперь. А ночью пошли мужики, да не нашли там никого. Видать, увезли их куда-то. Не нашли мы. Было такое, детки.
Что мы можем ответить? Что спросить можем?
— Заходите в дом, — приглашает старушка. — Садитесь за стол, отдохните, закусите. Что нам Бог послал, тем и путник подкрепится. Заходите, заходите.
Старушка суетится, поправляет платочек. У нее все время дрожит подбородок, должно быть, от старости.
— Заходите, не побрезгуйте, детки…
Мы не можем зайти, не можем сесть за стол. Мы не можем отдыхать, запивая черный хлеб белым молоком.
Нам пора.
Время возвращаться обратно в гетто.
Дальше — лес, некуда идти. Наш путь окончен. Да и незачем больше туда ходить. Теперь мы все знаем.
Пора домой. Время возвращаться.
Мы шагаем в город по пыльному шоссе. Дорога долгая, однообразная.
О чем думает Эстер?
Не знаю…
Не знаю, о чем и сам думаю.
Начинается улица. Тоже длинная, долгая. Нас нагоняют трое парней и две девушки. Все с торбами, мешочками, корзинами. Видно, ходили в деревню за продуктами. Они спешат, обгоняют нас, но одна из девушек оборачивается, потом говорит что-то своим спутникам. Они останавливаются и ждут, пока мы подойдем.
— Из деревни? — спрашивает девушка.
— Нет, не из деревни.
— Откуда путь держите?
— Мы искали нашего друга Янека.
Она больше не спрашивает, видит и так, что нас двое и что Янека мы не нашли.
— Его вчера увезли, — глухо говорит Эстер.
Я понимаю, ей трудно молчать, она объясняет им только потому, что ей необходимо хоть пару слов произнести вслух, услышать собственный голос.
— Идемте с нами. Вместе веселей, — говорит девушка.
— Нет, нам еще далеко, — говорю я.
И рассказываю, где нам нужно свернуть направо, где — налево, а где снова прямо.
— О! — говорит девушка. — Нам как раз по пути! До той узкой улочки.
Она смотрит на своих спутников, и те молча соглашаются: да, как раз до той самой улочки.
Мы идем посередине, идем все вместе.
Нам и впрямь лучше, когда вокруг голоса людей.
Подворотня.
Здесь нам придется ждать.
Попутчики проводили нас до самого места и повернули обратно. Вряд ли им было по пути с нами.
Мы прячемся за створку ворот. Тут нас никто не увидит. Достаем нитку с иголкой и пришиваем на место наши желтые звезды.
Скоро пойдут колонны, мы смешаемся с людьми и вернемся в гетто.
Время тянется медленно-медленно, но все же было бы легче ждать, если б не чей-то стон рядом. Кто-то стонет, и нам кажется, что это Янек.
Ход тридцать девятый
Шогер закрепился на королевском фланге.
— Романтика…
Он вздохнул и, не дождавшись ответа, продолжал:
— Да, романтика… Вокруг темно, только наша доска освещена. Словно костер. Представляешь, мы с тобой пастухи в Тироле, и фигуры — наше стадо. Мы пасем свое стадо, греемся у костра. Где-то наигрывает свирель, а я пою тирольские песни. Эх и жизнь! Правда?
Шогер расправил плечи, откинулся на спинку стула и, задрав голову, раскинув руки, затянул гортанным тирольским тремоло:
— Ла-ло-ли-лиууу… Ла-ло-ли-ли-лиууу…
Затем навалился грудью на шахматный столик, победно глянул на противника и усмехнулся.
Вечер опускался ясный, тихий, как синевато просвечивающее стекло. Солнце удлинило, вытянуло тени и село за горизонт. Вот-вот должны были выступить звезды — миллионы разноцветных далеких светляков. Под ногами лежали камни, твердые и вечные; легкий ветер хлопал ставней где-то поблизости.
От всего этого и впрямь веяло чем-то таинственным.
Но в этой укромной вечерней тишине были люди. Были карбидные фонари, был шахматный столик и фигуры — мертвые, деревянные, и две живые, сидящие друг против друга, Исаак Липман и Адольф Шогер.
Мертвые фигуры были просто деревяшками.
Живые боролись.
— Я родил дочь Риву, — сказал Авраам Липман.
Ровно месяц, тридцать дней, прожили они вдвоем в этом домике на крутом берегу быстрой речки, там, где кончались огороды. Домик совсем крохотный — сени да комнатушка. Зато на отшибе. Сюда никто не заглядывал, не совал любопытный нос. В комнатке было все, что надо: стол, тумбочка и две кровати. Спали не раздеваясь, как на фронте. Оба делали вид, будто не замечают, а может, и впрямь не замечали, что он — мужчина, а она — женщина.