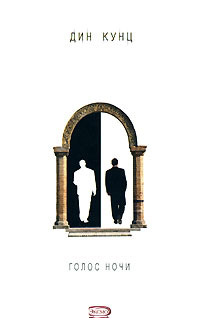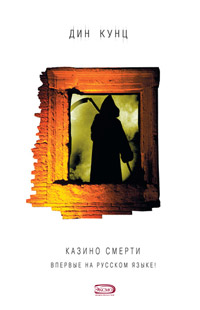Книга Безжалостный - Дин Кунц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хотя Пенни не сказала, что от моей истории у нее разыгрался аппетит, ее не передергивало от очень уж натуралистичных подробностей. Но она то и дело озабоченно заглядывала в окно задней дверцы «Маунтинера», за которым спал наш сын.
Она закачала в бак весь оплаченный нами бензин, поставила пистолет на колонку, но мы не сели в машину, остались стоять под навесом. В холодном воздухе дыхание паром вырывалось изо рта.
– Значит, у Ваксса есть пособник, – кивнула она. – Небось такой же псих.
– Судя по голосу, тот еще экземпляр.
– Тогда понятно, как Ваксс мог делать так много и так быстро.
– Джон Клитрау назвал его безжалостным. Проще быть безжалостным, когда тебе помогают.
– Что все это значит, Кабби? Этим утром Клитрау сказал тебе, что Ваксс не просто критик с собственным мнением, но критик с программой действий. Что это за программа?
– Я не думаю, что он знал. Просто чувствовал. Но ведь у безумца и программа действий безумная. Даже если бы мы знали его программу, то все равно не могли бы понять его, не смогли бы эффективно ему противостоять. Он по-прежнему чокнутый, а чокнутые непредсказуемы.
– Я не уверена, что он безумец.
– Осторожно, сладенькая, а не то я подумаю, что и ты не в своем уме.
– Нет, он, конечно, рехнулся, все так, но он принадлежит к элитному классу, который определяет правила культуры, в том числе и то, кто достоин кем-либо считаться, а кто – нет. Таких не запирают в палату для буйных. Такие сами носят ключи.
– Душевнобольные руководят психушкой, так?
– Ты собираешься прикинуться, будто никогда этого не замечал?
– Возникает ощущение, что ты уже готова построить собственный бункер.
– Не думай, что я не рассматривала такой вариант.
– Послушай, Пенни, мы должны изменить наши планы.
– Какие планы? Насчет Лэндалфа?
Томас Лэндалф, автор романа «Сокольничий и монах», который, по версии полиции, жестоко истязал и замучил до смерти жену и дочь, после чего покончил с собой, облившись бензином и чиркнув зажигалкой, жил и умер в маленьком городке на севере Калифорнии, у самой границы с Орегоном. Местечко это называется Смоуквилл. Туда мы и направлялись.
В нашем отчаянном положении убийство Лэндалфа и его семьи казалось единственной ниточкой, которая может привести к уликам против Ваксса. Если Лэндалфа знали и любили в Смоуквилле, местные жители не приняли бы официальную версию. Они могут знать что-то такое, что не всплыло во время следствия и не стало достоянием репортеров, что-то такое, о чем следовало знать и нам.
– Клитрау – это урок для нас, – ответил я. – Он попытался нам помочь. Помогая нам, дал шансу Вакссу добавить еще один скальп к своей коллекции. Если мы начнем наводить справки в Смоуквилле, возможно, Ваксс и его дружок, брат всего человечества, услышат об этом.
Взгляд, которым она меня одарила, я бы с радостью сфотографировал. А фотографию вставил бы в альбом самых дорогих воспоминаний.
– И что ты предлагаешь вместо этого? – спросила она. – Поехать в дом Ваксса в Лагуна-Бич, постучать в дверь, встретиться с ним лицом к лицу?
– Нет, благодарю. Я видел «Молчание ягнят». Знаю, что происходит с людьми, которые входят в дом мистера Гамба.
– Тогда каков твой план Б?
Я слушал внимательно, но не услышал ни одного произнесенного мною слова. Только пар вырывался изо рта.
– Ты хочешь отказаться от наших жизней и убегать до самой смерти, как Клитрау? – спросила она.
– Нет, нет. Я знаю, этому не бывать. Мы, Гринвичи, конечно, любим побегать, а вот Бумы – нет.
– Чертовски верно. Теперь мы тем более должны ехать в Смоуквилл.
Я стоял, глупо кивая, словно одна из сувенирных собачек с качающейся головой.
– Дискуссия закончена? – спросила Пенни.
– Что ж, поскольку у меня веских аргументов нет, я полагаю, что да.
– Хорошо. Мы в трех часах к югу от Сан-Франциско. За руль садишься ты. Теперь моя очередь вздремнуть.
Я сел за руль. Пенни – на место штурмана.
На заднем сиденье спал Майло. Лесси тоже спала, но еще и попукивала время от времени. К счастью, когда она выпускала газы, они ничем не пахли. Казалось, Лесси стремилась никого не обидеть, не лаяла, не воняла.
Я уже выезжал на автостраду, чтобы продолжить путь на север, когда Пенни подала голос:
– Эти последние слова, которые произнес Клитрау перед тем, как ему перерезали горло. Они же не имеют смысла.
– Он сказал: «И теперь я в башне Парижа с…» – после раздались эти жуткие звуки.
– В башне Парижа. Эйфелевой башне? Он звонил тебе из Парижа?
– Нет. Я так не думаю. Он говорил с приставленным к горлу ножом. Он рассказал историю, которую ему приказали рассказать, знал, что теперь его убьют… может, в голове у него заклинило, и он начал нести чушь.
– У тебя создалось ощущение, что он несет чушь?
– Нет, – признал я. – Он говорил все тем же бесстрастным голосом.
– Эта фраза что-то означает, – заявила Пенни. – Что-то означает.
В «Маунтинере» бодрствовал только я, поэтому не имел никакой возможности с кем-то поговорить, и барабанная дробь дождя по крыше лишь изредка нарушалась пущенным собакой «голубком».
Мысли мои то и дело возвращались к рассказу Джона Клитрау о гибели его жены и дочерей. Ваксс хотел, чтобы я услышал об этом непосредственно от обреченного на смерть писателя.
Отчасти его цель состояла в том, чтобы деморализовать меня, напугать до такой степени, чтобы страх перестал служить движущей силой, наоборот, воспрепятствовал любым активным действиям, которые я мог бы предпринять, защищая себя и свою семью.
Вспомнив, как пытался убедить Пенни не ехать в Смоуквилл, я с ужасом осознал, сколь действенной показывала себя стратегия Ваксса.
Но он стремился не только к деморализации. Прежде чем убить Джона, Ваксс хотел раздавить писателя, заставить отказаться от взгляда на жизнь, который проповедовали его книги.
Именно в этом и состояла цель программы Ваксса, причина (помимо того, что убийства доставляли ему наслаждение), по которой он хотел убить Джона, Тома Лэндалфа, меня.
Мчась сквозь ночь и дождь, я слышал, как Пенни что-то бормочет во вроде бы безмятежном сне, как Майло чуть похрапывает на заднем сиденье… и Лесси только что вновь выпустила стайку шумных, но без запаха, «голубков».
Этот прозаический момент не столько позабавил меня, как показался драгоценным, ибо показывал, сколько радости может принести этот созданный для человека мир. Никакой машинной цивилизации, как бы мы ею ни кичились, такое было не под силу.