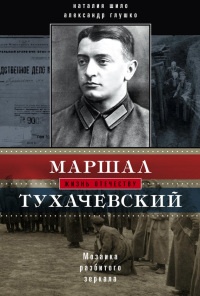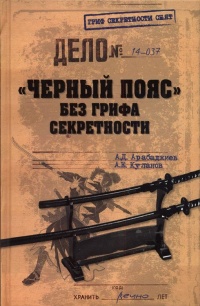Книга Россия крепостная - Борис Тарасов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отчего вино не нагрето? — спросил он одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел. — Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз. Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.
Pardon, mon cher, — промолвил он с прятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. — Насчет Федора… распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.
Слушаю-с, — отвечал толстый и вышел.
Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни, — весело заметил Аркадий Павлыч…»
Достоверность и распространенность образа такого помещика в реальной жизни подтверждается множеством свидетельств. Один мемуарист описывает, как во время выступления перед гостями крепостного хора певчих хозяин вдруг поморщился — ему показалось, что один из теноров немного сфальшивил, и он протяжным голосом, с ласковой почти укоризной воскликнул: «Ах, Фединька!» Тенор после этого возгласа попятился наз!ад и вскоре вовсе вышел из залы. Минут через 15 он вернулся на свое место и продолжил пение. На вопрос о том, куда ходил «Фединька», лакей невозмутимо отвечал, что на конюшню, где ему и всыпали 25 «горячих». Изумленный гость, знавший этого помещика как человека самого добродушного и нежного обращения, невольно спросил: «Ну а если кто ошибется два и три раза? — Так что ж, — отвечал лакей, — разве у барина лесу на розги недостанет? Отпорят и два и три раза. У нас и барин и управляющие люди добрые, лесу для нас не жалеют. — Но ведь барин не видит, можно и не сечь, — продолжал свои расспросы мемуарист. — Нет, у нас этого не бывает. И кучера и розги для нас всегда готовы, и там сидит такой иуда, что он от себя еще прибавит, не то чтоб убавить. А чтобы вовсе не сечь? Да барин насмерть запорет всех!»
Подобно тому, как это было принято на рабовладельческой плантации, в богатой барской усадьбе существовал целый штат надсмотрщиков, постоянно ходивших с пучками розог за поясом, и в обязанности которых входило чинить расправу в любом месте и в любое время, когда это потребуется. Даже на охоту и в гости отправлялись не иначе как с запасом розог, редко остававшихся без использования. Причем и сами палачи могли тут же подвергнуться наказанию: по признанию одного такого крепостного «малюты», у него «почти в том только время проходило, что он или других сек, или его секли»…
Пороли за любую оплошность — действительную или только мнимую вину — за неряшливость или за щегольство, за громкий смех или за якобы мрачный взгляд, за опрокинутую нечаянно солонку или за разбитое блюдце.
Любивший образцовый порядок генерал Измайлов распорядился однажды перепороть всех своих псарей на охоте за то, что у мальчишки-псаренка слетел с головы картуз. А в другой раз барский «казак» был трижды за один день выпорот: сначала за то, что его лошадь коснулась хвостом до колеса господской кареты, затем за то, что допустил свору собак слишком близко к лошадям, отчего возникла опасность, что собаки могли покалечиться, и, наконец, за то, что, после двойной экзекуции, не заметил притаившегося в поле зайца.
Пороли поодиночке и целыми партиями, по нескольку раз в день или по нескольку дней кряду, или сажали на цепь, от которой освобождали только для того, чтобы заново высечь. От ежедневной порки гнили спины, люди сходили с ума.
Чем богаче был помещик, тем больше возможностей было у него для наложения «взысканий». Пороли иногда население целого села или всю дворню от мала до велика. Подобные показательные порки регулярно практиковались некоторыми дворянами, потому что здесь особенно зримо проявлялась неограниченная власть господина над его рабами и вотчинами. Бедным помещикам оставалось только искренне завидовать такой возможности для их состоятельных собратьев насладиться всеми преимуществами принадлежности к привилегированному сословию. «Какой вы счастливый, Михаил Петрович, — говорил однажды мелкопоместный богатому помещику, который… только что велел выпороть поголовно всех крестьян одной своей деревеньки, — выпорете этих идолов, — хоть душу отведете. А ведь у меня один уже "в бегах", осталось всего четверо, и пороть-то боюсь, чтобы все не разбежались…»
«Я отлично помню эти тенистые сады с липовыми и кленовыми аллеями, террасы, обсаженные сиренью, на которых при свете ламп за самоваром читались «Рыбаки» и "Дворянское гнездо" и т. д. и с которых пришедшему за распоряжением на завтрашний день старосте тут же отдавались приказания (что поделаешь с нашим народом!) «взыскать» с Егорки или Марфушки», — вспоминал писатель С. Терпигорев о современном его детству быте обычной дворянской усадьбы середины XIX века. Особенностью этого быта было то, что проявления крайней жестокости в нем нередко соседствовали с прекрасной образованностью, чадолюбием, набожностью и хлебосольным гостеприимством русских помещиков. Запарывали насмерть крестьян, почитывали на досуге «Евгения Онегина» или томик Тургенева и потчевали гостей домашними наливками одни и те же люди.
Андрей Болотов неоднократно приводит возмущающие его примеры жестокого обращения господ со своими слугами. Но при этом описывает собственные поступки в этом же роде, по-видимому не замечая, насколько бесчеловечными они оказываются. Болотов признается, что его раздражал старик столяр, имевший слабость к вину. Для восстановления порядка он решил прибегнуть к таким мерам: «посекши его немного, посадил я его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней и потом повторять сечение понемногу несколько раз, дабы оно было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много… и если кого и секал… то секал очень умеренно, и отнюдь не тираническим образом, как другие».
Насколько действительно умеренными были «взыскания» в поместье Болотова, можно судить по тому, что, когда старику столяру в следующий раз грозило наказание, он не стал его дожидаться и удавился, боясь, по словам самого мемуариста, «чтоб ему не было какого истязания»… При этом Болотов с осуждением и, похоже, с искренним недоумением пишет о том, что сыновья этого старика, прежде исправные слуги, после гибели отца «сделались сущими извергами» и не только стали оказывать ему грубости, но «даже дошли до такого безумия», что один кричал, будто хочет схватить нож и пропороть Болотову живот, а там и себя по горлу; а другой, и в правду схватив нож, хотел будто бы зарезаться — «словом, они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами», — заключает просвещенный помещик с полным осознанием своей правоты. Этот маленький мятеж был подавлен очень быстро: братьев посадили на цепь и, продержав на ней впроголодь две недели, добились от них полного раскаяния.
Телесные наказания превратились в неотъемлемую часть дворянского быта. Нередко с них начинался и ими заканчивался день помещика. В то время как сильно досадивших чем-нибудь своему господину секли на конюшне, остальным щедро раздавались барской рукой пощечины и зуботычины во всякое время — и за обедом и за молитвой. Сельский священник описывал, как это происходило: «Стоит барыня на коленях, выкладывает кресты и вдруг увидит, что какая-нибудь Малашка сделала что-нибудь не так, как хотелось бы барыне, например, стул поставила не так, нечисто мела и т. п…. Барыня вдруг вскочит: "Малашка, что ты делаешь?" И — бац, бац по лицу и опять на колена: "Господи! Соблазнила меня эта, помилуй меня Г»