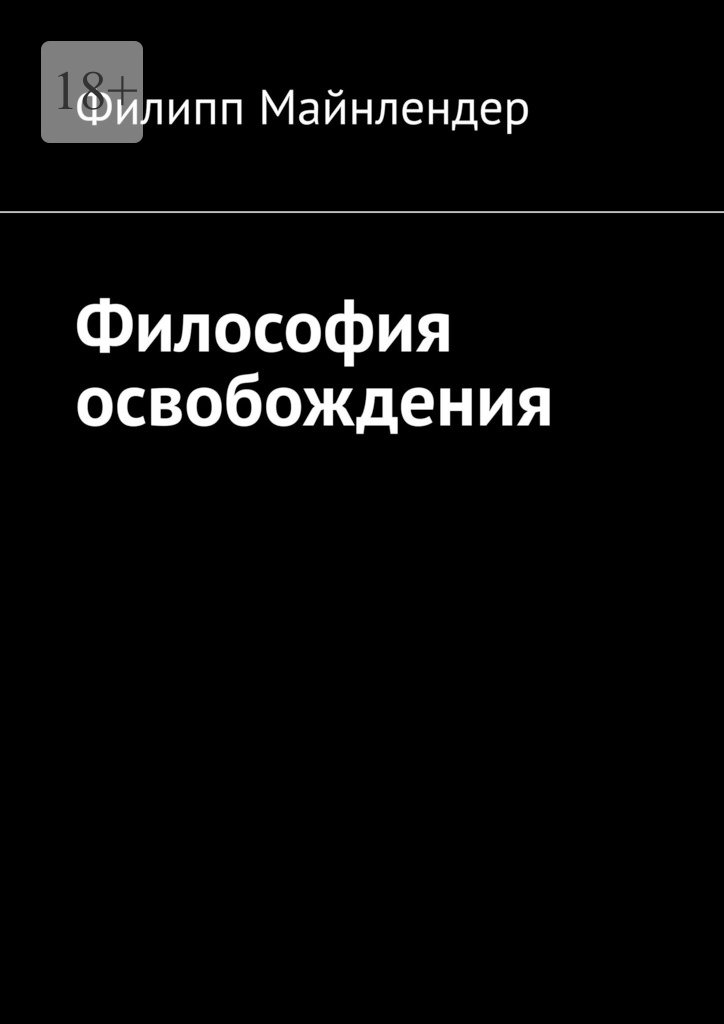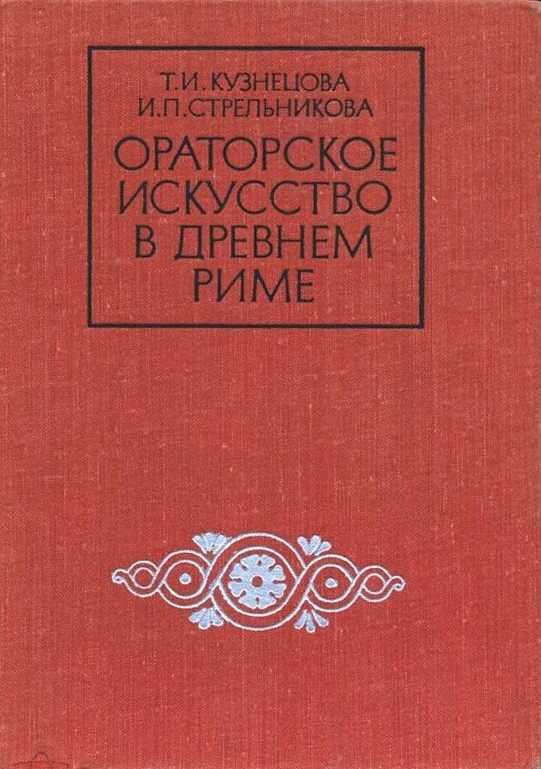Книга Ораторское искусство - Александр Викторович Марков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Всякая риторика – театр, и Толкин разбирает вопрос, насколько мы верим происходящему, когда слушаем волшебную сказку. Человек, привыкший считать только бытовую реальность настоящей, не верит в сказку, а тормозит свое неверие, пока слушает сказочника. Но это просто опыт притворства, социальной вежливости – он понимает в глубине души, что миф и сказка социальны, но никак не соотносит миф со своими повседневными запросами и желаниями. Миф для него – не риторическая машина желаний, обобщающая желанный опыт и потому облагораживающая каждого человека, слушающего выступление искусного ритора, а всего лишь сказка из книги, на время позаимствованная со склада сказок, из «чулана» ненужных вещей. Эта вещь может быть любопытной, но она не преобразует жизнь человека. Толкин называет такое отношение к сказке «литературным верованием» – да, мы верим, что книга может поменять жизнь человека, но это всего лишь одна книга среди других книг, которые мы привыкли читать равнодушно:
Дети, конечно, способны к «литературному верованию», когда сказочник достаточно искусен, чтобы его возбудить. Такое состояние души было названо «произвольным торможением неверия». По-моему, это определение не соответствует действительности. На самом деле происходит то, что сказочник оказывается удачливым «вторичным творцом». Он создает Вторичный Мир, в который открыт доступ вашему сознанию. И то, что происходит в этом мире, в его рассказе – «правда», ибо соответствует законам этого мира. Поэтому вы ему верите, пока находитесь как бы в нем. В тот момент, когда возникает неверие, разрушаются чары: значит, магия, или, вернее, искусство не достигло цели. Тогда вы снова оказываетесь в своем «первичном» мире, извне наблюдая за тем, что происходит в отторгнутом «вторичном». Если по доброте, из вежливости или в силу обстоятельств вы остались там, ваше неверие должно быть снова заторможено или сковано, иначе смотреть и слушать было бы невыносимо. Но такое торможение неверия – всего лишь подмена настоящего, уловка; к подобным уловкам мы прибегаем, когда снисходим до игры или притворства, или когда пытаемся (с большей или меньшей охотой) найти достоинства в произведении искусства, оставившем нас равнодушными[113].
Это «торможение неверия» Толкин сравнил с поведением спортивного болельщика, который не очаровывается спортивным матчем, а хочет быть очарованным, насильственно возбуждает в себе желание. Он воспринимает не единый сюжет матча, а отдельные его фрагменты, вроде эмблемы клуба или цвета формы – это только и пробуждает в нем эмоции. Мышление болельщика фрагментарно и скудно, к такой же фрагментарности приучает сведение мифов и сказок просто к одному из видов литературы, к полке с разнородными книгами:
Настоящий энтузиаст игры в крикет находится в очарованном состоянии Вторичного Верования. Зритель на матче находится на более низкой стадии. Как зритель, я могу с большим или меньшим усилием добиться произвольного торможения неверия, если вынужден находиться там или если у меня появляются другие мотивы прогнать скуку: например, страстное геральдическое предпочтение синего голубому. Торможение неверия может произойти от общей усталости, утомления ума, от сентиментального настроения, для взрослого это убогое состояние души. Взрослым оно, по-видимому, свойственно нередко и проявляется, когда они встречают сказку. Уйти им мешает сентиментальность, она не поддерживает это состояние (воспоминания детства, представление о том, каким детство должно быть); они внушают себе, что сказка должна им нравиться. Но если бы им по-настоящему нравилась сказка, они бы не тормозили неверие; они бы просто верили – в прямом смысле[114].
Такая же фрагментарность появляется и в современном театре, когда он перестает быть сюжетным и сводит все эффекты к отдельным фокусам, к отдельным способам привлечения внимания, вроде пантомимы. Это для Толкина плохая риторика – она обращена не к нашему существу, не ко всему нашему телу, не ко всему нашему переживанию, но только к нашему вниманию, которое мы в соответствии с обыденными ритуалами начинаем насильственно щекотать и возбуждать, приходя в театр:
Фантазия даже в простейшем виде почти не имеет успеха в Драме, т. е. когда ее зримо и вслух представляют, играют. Фантазия не терпит подделки. Переодеваясь в говорящих животных, люди творят буффонаду, занимаются мимикрией, но это не Фантазия. Провал побочной формы драматического искусства, пантомимы, очень хорошо это показывает. Чем она ближе к «театрализованной сказке», тем хуже. Ее можно терпеть лишь в том случае, когда все фантастическое, что есть в сюжете, сведено к рудиментарному обрамлению фарса и ни от кого не требуют и не ожидают «верования» ни в какой части представления. Частично это происходит, конечно, оттого, что постановщикам драмы приходится (или они пытаются) работать с механизмами, чтобы изобразить Фантазию или Магию. Однажды я видел так называемую «детскую пантомиму», прямой пересказ «Кота в сапогах», даже с превращением Людоеда в Мышь. Если бы механически все удалось, то зрители либо перепугались бы, либо восприняли все как первоклассный фокус. Фокус не удался, хотя была довольно натуральная молния, затормозить неверие ничто не помогло, как мертвому припарка[115].
Фантазия для Толкина – это магия, но ставшая частью сюжета. Поэтому можно описывать волшебную сказку как фантазию, если иметь в виду все повороты сюжета. Точно так же риторически правильно построенную речь можно описать как «красоту», имея в виду все ее эффекты: термин «красота» будет соответствовать термину «фантазия».
Как в риторике воздействует не столько ритор своей личностью и своими театрально-танцевальными позами, сколько картинные слова, – так и в волшебной сказке воздействует не столько личная фантазия сказочника, сколько собственная фантазия волшебных существ. Эти существа не просто изображаются с фантазией, они и есть фантазия. То, как Толкин описывает действие этих существ, и есть описание эффектов правильно построенной речи: она быстро нас вводит в мир сбывшихся желаний, привлекательный и неотразимый, – и мы узнаем себя как людей, принадлежащих социальному миру, в котором желания могут быть направлены теперь и навсегда на общее благо:
Для этого эльфийского искусства нужно подходящее слово, но все слова, которыми его до сих пор называли, оказались расплывчатыми и путаются с другими понятиями. Ближе всего под рукой – Магия. Я это слово уже использовал выше, но, пожалуй, не стоило – слово «магия» надо бы оставить для обозначения действий Мага. Искусство – у людей – есть процесс, который попутно (ибо это