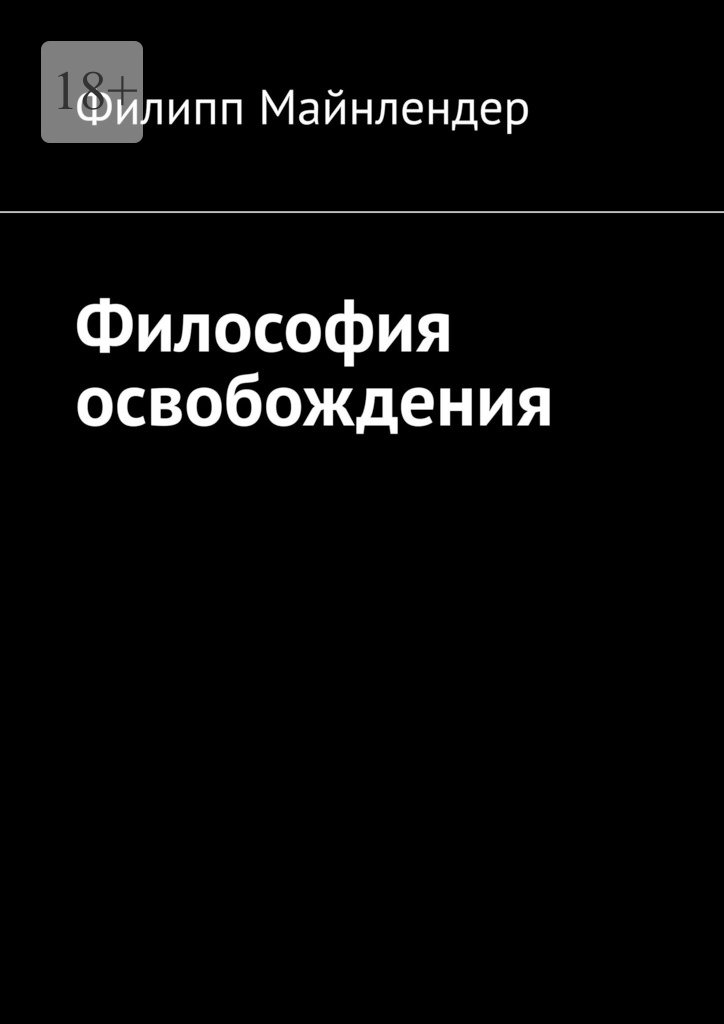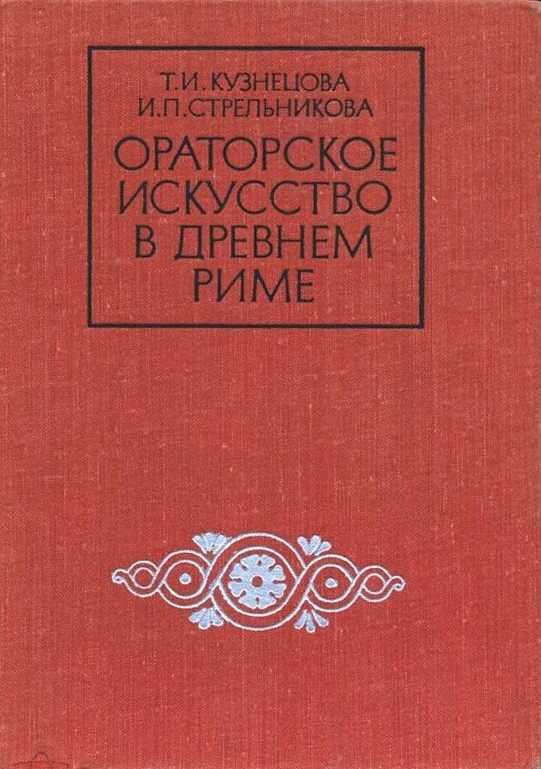Книга Ораторское искусство - Александр Викторович Марков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таким образом, и магия волшебной сказки, и искусство риторики реализуют власть человека над окружающим миром. Но это не власть угнетения, а власть взаимного соблазна: ты словами соблазняешь предметы становиться другими, но и сам соблазняешься их видом и чаруешься ими. Такое общее очарование и становится общим чувством – хотя вещи повернуты к нам часто своими неприятными реалистическими гранями, они не сводятся к этому плоскому реализму.
Есть и другие плоскости, плоскости самой речи, которая стремится быть поэтичной. Поэзия – это не воспевание вещей в каком-то жанре, а учредительная сила бытия: поэзия показывает, что вещь не просто дана, но действует. Для поэта «солнце взошло» – не факт календаря или трудовой занятости, а действие солнца, его спектакль, поэтический факт, вовлекающий и нас самих в торжество. Поэтому риторика волшебной сказки есть не что иное, как соревнование человека с самим бытием в производстве поэтических речей. Кто окажется лучше, человек, который применит необычные эпитеты к вещам, или бытие, которое пересоздаст самого человека как желающего все прекраснее воспевать лучшее в бытии?
Толкин отвергает мнение предшествующих филологов, что миф и сказка возникли в результате простого олицетворения сил неодушевленной природы. Для Толкина миф всегда социален, он имеет в виду не то, что человек восхищается солнцем или боится бури и поэтому приписывает им волю. Такое понимание воли как немотивированной разрушительной воли человека утвердилось только в эпоху романтизма – отсюда мысль о том, что созидательное и разрушительное в природе должно олицетворяться. В эпоху мифологии были совсем другие способы ассоциировать природу и лицо человека.
Главный из этих способов – вовлечь солнце или ветер в социальную жизнь, в жизнь рода, в те испытания, которые приходится проходить человеческому роду и человеческому индивиду. Тогда волшебная сказка – это особый ассоциативный механизм, увеличивающий общее счастье, показывающий, что солнце светит не кому-то одному, а всем вместе. Миф и сказка противостоят захвату природных явлений, любому притворству; как и публичная риторика позднее противостояла узурпации власти, показывая публично и открыто, что всем людям желанны одни и те же ценности:
Давайте на мгновение представим, как предполагает эта теория, что в реальном мире не существует ничего, соответствующего «богам» мифологии: нет никаких личностей, есть только астрономические и метеорологические объекты. Наделить эти природные объекты личностными характеристиками, славой и значительностью может только дар человека. Источником личностного, индивидуального может быть только личность. Боги могут брать красоту и краски из высокого великолепия Природы, но лишь если человек похитит их у солнца, луны и облаков и отдаст им. Индивидуальность они получают непосредственно от человека. Тень, черноту или искру божественности они получают через человека из невидимого сверхъестественного мира. Между «низкой» и «высокой» мифологией существенной разницы нет. Персонажи обеих мифологий живут (если живут вообще) в одной жизни, точно так же, как короли и крестьяне в мире смертных[111].
И высокая мифология, воспевающая солнце и луну, и низовая мифология, рассказывающая о подземных существах, одинаково социальна. Просто низовая мифология появляется ситуативно, когда нужно кого-то утешить или ободрить. Так же ситуативно появляется и религия, когда требуется поблагодарить солнце за что-то чрезвычайное, за обильный урожай.
Низовая мифология и религия – ситуативны, это переменные величины, тогда как высокая мифология, мифология волшебной сказки, есть величина постоянная. Точно так же в риторической культуре и религиозное откровение, и объяснение событий всегда это нечто чрезвычайное, не запланированное привычными эффектами речи. Но и бытовой комизм допустим как эпизод, как часть риторических жанров, как некоторое снисхождение к текущему положению дел, но не как норма красноречия. Красноречие как таковое созидает мир соблазняющей красоты, зовущей человека к серьезному и ответственному действию. Это действие становится настолько героическим и прекрасным, что следующий оратор посвящает ему вдохновляющую речь. Это уже не эпизод, а целостный мир гражданского подвига.
Но так же действует и волшебная сказка. Она представляет мир волшебным, чтобы это волшебство сделало наше отношение к миру более осмысленным, более преданным – и тем самым смыслы нашей речи и нашей жизни становились драгоценными и чудесными:
Ведь у волшебных сказок вообще три стороны: мистической они обращены к сверхъестественному, магической – к природе, а зеркалом презрения и сострадания – к человеку. Важнейшая сторона волшебного – средняя из трех, магическая. Степень проявления остальных двух (если они проявляются в волшебной сказке) – величина переменная и зависит от рассказчика в каждом индивидуальном случае[112].
Для обыденного сознания достоверно только типичное: например, типично спотыкаться. Эльф, предупреждающий человека, что он может споткнуться, будет отнесен сразу к вымыслу, потому что это не типично, не достоверно, не правдоподобно. Но, говорит Толкин, сама наша речь состоит не только из типичного. Ее можно рассматривать как «суп», в который попадают разные ингредиенты: реальные исторические личности, сказочные существа, выразительные обороты, предположения, обобщения. В этом «супе» оказаться почетно, и поэтому нет большого различия сказать «эльф предупреждал» или «интуиция предупреждала». Понятие об интуиции – это тоже речевая фигура, которая превращает отдельные предчувствия в якобы закономерное отношение к окружающему миру. Но мы знаем, что интуицию обрести трудно, трудно отличить от суеверий, она подводит, и иногда ее голос расслышать трудно. Она хулиганит с нами не меньше, чем эльф.
Поэтому риторика волшебной сказки – это риторика событий, формирующих достоинство человека. Несомненным достоинством обладают Боги: они внимают предупреждениям, смело выходят навстречу пророчествам, могут с честью осуществить сложные задачи. Поэтому, когда в