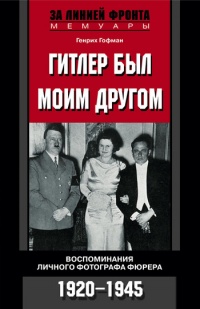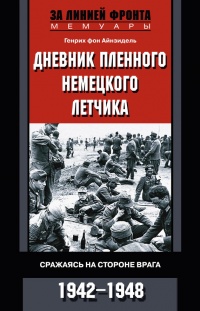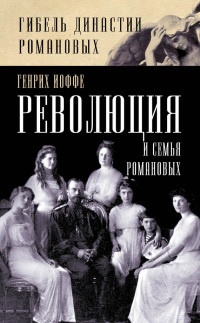Книга Сквозь ад за Гитлера - Генрих Метельман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вскоре в печке весело пылал огонь, и вместе с теплом, наполнявшим землянку, в меня возвращалась жизнь. Еды теперь было вдосталь, патронов тоже, я даже не смог бы унести с собой все ящики — сил бы не хватило. Первым делом я обошел всех погибших товарищей, собрал солдатские книжки и снял с тех жетоны. Едва я покончил с этим, как откуда-то донеслись не то стоны, не то призывы о помощи. С пистолетом наготове я заглянул в ложбину. Там грудой лежали тела — немцы и румыны. Потом разглядел румынского офицера с висевшей на кусочке кожи рукой. Румын умоляюще уставился на меня, и, отведя взор, я заметил, что кое-кто из лежавших здесь немцев еще живы, хотя и тяжело ранены. Что я мог поделать? Я не был медиком, к тому же у меня не было ни перевязочного пакета, ни даже куска бинта, ни глотка воды, чтобы дать им напиться. Я молча повернулся и побрел прочь из этого кошмарного места. Вслед мне выкрикивали ругательства, но я знал — останься я там, и я тоже околею вместе с ними. Будь у меня в пистолете больше патронов, я наверняка положил бы конец их страданиям.
Я вернулся в землянку, прямо на плите поджарил на сале яичницу, подкинул туда мясца и нажрался до отвала. После сытной еды меня потянуло в сон, и я, подстелив под себя сразу несколько одеял, провалился в глубокий сродни беспамятству сон. Ни мучительных сновидений, вызывающих укоры совести, ничего ровным счетом.
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день за них идет на бой!
Проснувшись, я не сразу понял, где я и что происходит. В землянке по-прежнему было тепло, хотя свечка и угли в печи догорели, было темно, хоть глаз выколи. Сон хоть и освежил меня, но от мысли о предстоящем на душе было муторно. Мне стоило колоссальных усилий выбраться из-под одеяла и одеться. Снова весело запылал огонь в печи, на сковородке задымилась еда — желанная и горячая впервые не помню уж за сколько дней.
Сам того не сознавая, я стал участником великих исторических событий, оказавшись в самой гуще контрнаступления армии маршала Рокоссовского, в считаные дни окружившей 6-ю армию Паулюса и приступившей к ее планомерной ликвидации в районе Сталинграда.
Эти события ознаменовали собой переломный момент в ходе не только восточной кампании Гитлера, но и Второй мировой войны в целом. Но мне тогда было не до этого, поскольку пришлось всерьез задуматься над тем, как уцелеть в этой мясорубке. Где располагались немецкие позиции в то утро, когда разразилась катастрофа, не было понятно никому, в том числе и мне. Куда идти? Где их искать? К счастью, небо было безоблачным, и если двигаться, чтобы Полярная звезда оставалась справа, точно попадешь на запад, а чутье подсказывало следовать именно в этом направлении.
Выбрав винтовку понадежнее и прихватив вдобавок пистолет, я забрал патроны, провиант, несколько свечей и бутылочку отличного французского коньяка, найденную мною незадолго до этого в спешно покинутой румынскими офицерами землянке. Там же я обнаружил и нечто вроде шубы и меховой шапки. И когда в тот же вечер я, укутанный с ног до головы в мех, выбрался оттуда, чтобы отправиться в путь, я вдруг сообразил, что подобный прикид вполне оказался бы к месту на каком-нибудь фешенебельном зимнем курорте. С тем, правда, отличием, что здешние обстоятельства заставляли в первую очередь печься не о моде, а о тепле. Я пробрался туда, где раньше лежали раненые; стояла мертвая тишина, и все вокруг было покрыто толстым слоем снега. Потом по очереди обошел тела моих четырех товарищей, останавливаясь на минуту около каждого из них, вслух помянул их. И уже уходя, почувствовал, что меня душат слезы, причем рыдать хотелось не столько о незавидной участи других, сколько о своей собственной.
Я шел ночами, обходя деревни, поскольку не знал, кем они были заняты: то ли немцами, то ли русскими. Когда рассветало, устраивался на ночлег в амбарах, в покинутых жителями полусгоревших хатах, в скирдах соломы, а то и просто где-нибудь под кустом. Несколько раз я решался развести крохотный костерок подогреть еду. Когда хотелось пить, я жевал снег. Пока я шел, вокруг меня расстилалась бескрайняя белая пустыня. Как ни странно, особой физической усталости я не чувствовал, да и настроение было вполне бодрое. Но какими же ужасно далекими казались мой дом, мое детство…
Так я шел четыре ночи подряд. Уже занимался новый, пятый по счету, день, когда прямо перед собой я увидел стог сена. Несколько секунд спустя я заметил, как к нему направляется чья-то фигура. Я тут же упал на снег, и понял, что и неизвестный тоже заметил меня, потому что тут же упал на колени и вскинул винтовку. Миновало несколько секунд томительного ожидания, и он, не выдержав, крикнул, причем по-русски:
— Румын?
— Немец! — ответил я ему на том же языке.
— Я тоже немец! — донеслась до меня родная речь.
И мы побежали навстречу друг другу, радостно подняв вверх наши винтовки. Это была незабываемая встреча. Звали его Фриц, он был ефрейтором, пехотинцем и примерно моим ровесником. Как выяснилось, их подразделение постигла та же участь, что и наше. В живых остались двое, он и его товарищ, но и тот вскоре умер от ран, и Фриц был несказанно рад встретить в этой бескрайней степи живую душу, причем соотечественника.
В разговоре мы и не заметили, как совсем рассвело, и решили на день обосноваться прямо в стоге. Мы отрыли в сене нечто вроде пещеры на двоих, и стоило нам закрыть сеном лаз, как мы почувствовали себя в тепле и безопасности, и не прошло и нескольких минут, как мы видели десятый сон. Фриц растолкал меня около полудня. Снаружи что-то происходило. Как мы могли понять, прибыли русские, их было около взвода, и решили сделать привал прямо у нашего стожка, благо сена было для лошадей сколько угодно. Потом мы почуяли запах полевой кухни, это оказалось для нас настоящей пыткой. Затем забренчали ложки о котелки. Русские расположились вплотную к стогу, привалившись спинами к нему, и были буквально в метре от нас. Когда стемнело, сквозь сено мы заметили светлое пламя — красноармейцы разложили огромный костер. Мы опасались, как бы ненароком они нас не зажарили живьем — достаточно было одной-единственной искры, и нашему убежищу пришел бы конец. Потом они запели, причем пели хорошо, мы слышали, как они решили спрыснуть отдых, потому что уже очень скоро одного, того, кто, видимо, оказался слабее остальных, вырвало прямо у стога.
Привал красноармейцев затянулся на целых трое суток. Как мы пережили их, не берусь описывать — приходилось сидеть в кромешной темноте, ведь мы даже спичкой чиркнуть боялись. Переговариваться приходилось только шепотом, спать по очереди — на тот случай, если кто-нибудь захрапит, бодрствующий растолкал бы его. Когда они вилами подцепляли сено для лошадей, стог угрожающе колыхался, грозя завалиться. Еще бы немного, и мы остались бы без крыши, потому что сена они забрали немало. Нас мучил кашель, но мы боялись не то что кашлянуть, шевельнуться боялись. А уж об отправлении естественных потребностей лучше вообще не говорить… Воды у нас оставалось всего лишь бутылка, пить было почти нечего, если не считать коньяка. Короче говоря, нервы были на пределе. Пару раз мы с Фрицем даже сцепились, шепотом бранясь, заспорили, уж не сдаться ли нам в плен.