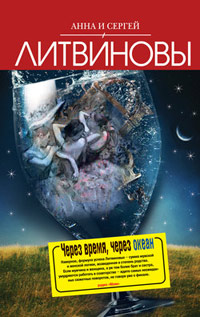Книга Сердце бога - Анна и Сергей Литвиновы
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да, понимаешь, обморозился. Холодина там страшная, все время минус тридцать, ветрище! А работа сплошь на открытом воздухе: пока погрузишь шарик в «Ан», а потом, после сброса, пока найдешь его в степи, организуешь эвакуацию, снова на аэродром притаранишь – и все на ветру. И что характерно: у летчиков – спирта не допросишься. Говорят, нету у нас. Не держим-с. Жмоты. Пришлось мне самому Королеву в Подлипки звонить, чтобы бидон прислал.
– И Королев прислал?
– Прислал. Ворчал, но прислал. Но сперва, прежде бидона, начальник твой туда прибыл, Феофанов. Страшно смотреть на него было: в ботиночках, с бумажными носочками, без, пардон, кальсончиков. Я уж ему «инкубаторы» надыбал…
– Что надыбали? – не понял Владик.
– «Инкубаторами» мы штаны на вате называли. Унты ему выдали. Сберегли, короче, для прогрессивного человечества… А в последний сброс решили собачек в спускаемый аппарат посадить. Кто его знает, думаем, может, это нам со стороны кажется, что все нормально с шариком, а на деле там перегрузки чрезвычайные или удар о землю сильнейший. Ну, посадили кабысдохов, сбросили, и… – Юрий Васильевич сделал артистическую паузу.
– Парашют не раскрылся? – ахнул Иноземцев.
– Нет, слава богу! Но шарик закатился куда-то по степи, пару часов его в снегу искали. Собачки были очень недовольны, чуть от холода не околели… Ладно, прости, дорогой, мне пора бежать – работы сейчас, сам знаешь, выше крыши.
Владику даже уходить из ОКБ не хотелось, настолько интересно было то, чем они сейчас занимались, – но, делать нечего, звал долг перед семьей.
Впоследствии, когда он будет читать «Понедельник начинается в субботу», подумает: книга как раз про него и его коллег из тех времен, шестидесятого года, когда работа была ему интересней, чем дрыгожество, фанты, выпивка и флирт разной степени легкости. Вот только писательское слово обладает определенной инерцией: пока оно созреет, пока автор его зафиксирует на бумаге, а потом закончит книгу, ее отредактируют, издадут, она дойдет до читателя – пройдут годы и годы.
«Понедельник» будет опубликован в середине шестидесятых, прочтет его Владик в шестьдесят девятом, а тогда изменится все или почти все. Стругацкие уже напишут к тому времени «Сказку о тройке», сразу запрещенную, а во Владиковой работе вместо порыва стать первыми возникнет тоскливое осознание: нас обогнали, и с каждым годом «американы» уходят все дальше. И вместо смелого, романтичного и фартового Королева на место главного конструктора придет осторожный Мишин; а рабочее горение потихоньку начнет уступать место карьеризму, наплевизму и бюрократизму. И люди творческие постепенно станут применять свою энергию и порыв не в работе, а в разнообразных хобби, от поисков пришельцев до хатха-йоги или КСП.
Но пока – энтузиазм тому виной или усталость от семейной жизни? – Владик готов был даже маму видеть на неделю меньше, пожертвовать бабушкиными пирожками и общением с Галей (отношения с которой вроде налаживались), лишь бы делать Дело.
Энск
Галя
Когда в квартиру Иноземцевых в Энске принесли телеграмму на имя Владика: СРОЧНО ВЫЗЫВАЕТЕСЬ НА ПРЕДПРИЯТИЕ п/я номер такой-то, Галя перехватила торжествующий взгляд супруга и сразу все поняла: он рад удрать на работу, рад от нее избавиться. Она и сын ему надоели! Он счастлив броситься в свое ОКБ – а ее оставляет одну здесь, в Энске, вместе со своими родственниками! Он запер тут ее под надзором свекрови и бабки – а сам отправляется в Москву! Работать, видите ли, ему нужно! И отдыхать там, конечно, веселиться! С друзьями и, наверное, этой, его Мариночкой!
Галя ушла на балкон плакать. В квартире в Энске имелся чудный балкон, весь уставленный самодельными горшками с диким виноградом. Пока виноград не разросся, и на балконе было холодновато. А Владик не пришел ее утешать – наверно, поскорей убежал, подлец, на железнодорожный вокзал за билетами. Вместо него явилась свекровь. Обняла: «Ничего-ничего! Вечно они, мужчины, что-нибудь придумывают, чтобы дома не сидеть. То у них работа, то война, то тюрьма. А что с ними теперь поделаешь? Остается только смиряться и ждать».
Ничего не скажешь, свекровь ее, Антонина Дмитриевна, была женщиной душевно чуткой. Воспитанной, интеллигентной. Никогда впрямую Гале не перечила, не указывала, не раздражалась. Если что не по ней, плотно смыкала губы, метала выразительные взоры, но – молчала. И только потом, найдя момент, который считала подходящим, начинала очень спокойным тоном настаивать на своем. Например, бесконечно рассказывать о пользе для молодой матери чая с молоком (которого Галя не терпела).
Зато бабуля, Ксения Илларионовна, сухощавая и сгорбленная, лепила, если что не по ней, прямо в лоб. А потом еще долго бухтела, вроде бы про себя, но так, что Галя все слышала: «Все таскает парня на руках и таскает, чуть захныкал, сразу хвать его – конечно, он один спокойно лежать не будет, скучно ему», – и одну и ту же мысль повторяет потом разными словами раз пятнадцать. И молилась – каждое утро и вечер, безо всяких икон, но бубнила одно и то же: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас» и еще «Отче наш». Хоть Галя в антирелигиозной семье росла, но волей-неволей эти молитвы запомнила. А «деда Аркадий», как Галя его звала – или отчим Владика Аркадий Матвеевич, – в ребенке и впрямь, как предрекал муж, души не чаял. Тоже был готов часами таскать его на руках (к неудовольствию старухи Ксении Илларионовны) или просто рассматривать его, спящего. Внешне ситуация у Галины была благоприятной: и люди вокруг, и большая двухкомнатная квартира с паровым отоплением и дровяной колонкой. И ей с маленьким Юрочкой отвели почти отдельную комнату – кроме них, там спала старушенция, – и за это она к ребеночку ночью вставала. Аркадий Матвеевич с внуком в колясочке вечерами гулять ходил, Антонина Дмитриевна купать помогала. Но – все равно. Это была чужая семья. Чужая, не своя. И чужая жизнь. Со своими, посторонними обычаями и запахами. И в ней Галя все чаще начинала чувствовать себя как в комфортабельной, даже уютной, но тюрьме. Словно она отбывала срок. Наказание – непонятно за что.
Сплошная, заведенная карусель. День похож на день, а неделя на неделю. Утром покормила Юрочку, одела – пошли гулять. Пришли – опять кормиться, потом сон, стирка и приготовление обеда. И снова кормление. И снова переодевание… Даже чувства к Юрочке куда-то подевались. Она на него не как на сыночка своего стала смотреть, самого родного для себя человечка, а словно на куклу, ожившего чурбанчика, которым по непонятно чьей прихоти ей приходилось заниматься. За которым следовало ухаживать, ничего к нему не испытывая (как не испытывала она ничего, откровенно говоря, и к своему супругу, отцу этого ребенка).
Ей мечталось – и виделось в снах – совсем другое. Она лицезрела себя в небе – летящей, парящей, падающей. И вспоминала себя в самолете перед прыжком – рядом с веселыми, умными и бравыми парнями. Или вдруг обнаруживала (в мечтах и снах) в машине, летящей с большой скоростью, – а рядом с ней, за рулем, суровый, но добрый к ней человек, генерал Провотворов. «Может, я не создана для материнства? – иногда думала она. – Может, мой удел – совсем-совсем другое?»