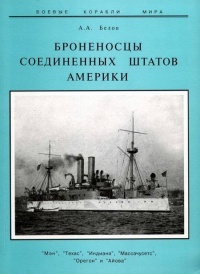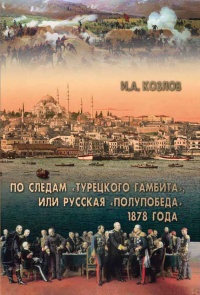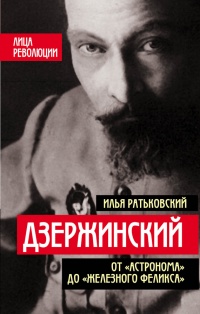Книга "Еврейское слово". Колонки - Анатолий Найман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Раз в месяц смотрю в поисках новинок на полку книжного магазина с одинаковыми синими томиками двух серий: «Чейсовская коллекция» и «Проза еврейской жизни». В конце прошлого года глаз выхватил имя Израиля Меттера и, еще не прочитав названия, я испытал мгновенное удовольствие и удовлетворение. Меттер, ровесник моих родителей, был в Ленинграде писатель с именем, и однажды, на очень специальном дне рождения, мы даже познакомились. А книга называлась «Пятый угол». Пятый угол была любимая школьная игра, когда, едва раздавался звонок на перемену, наиболее проворные и сильные занимали места вдоль стен и безжалостными толчками начинали гонять менее проворных и менее сильных по четырехугольнику класса, чтобы они нашли в нем пятый угол. Я – и, думаю, мои одноклассники тоже – интуитивно чувствовал, что игра не детская. То есть обложка, как я понял, подняла мне настроение потому, что наконец-то это была книжка не про когда-то и где-то, не про эпоху местечек и погромов, не про Польшу или Америку, а про нас и то время, когда я жил.
К тому, что он был писатель с именем, я должен прибавить, что это его характеристика и в переносном, и в самом прямом смысле. Люди даже мало с ним знакомые называли его за глаза уменьшительным Сёлик. По-домашнему – так располагали к себе его поведение и весь облик. Однако на том дне рождения он был меньше всего похож на «своего парня», напротив, показался мне образцом джентльмена. Подтянутый, элегантный, с речью, строго отбирающей слова, при этом свободной и выразительной. Не еврей, играющий джентльмена – как правило, с усилием, заметным со стороны, – а натуральный, каким я представлял себе, например, Дизраэли или лондонских Ротшильдов.
Как бы отдельно от этого о нем шла молва как об остроумце, передавали его шутки. Кажется, еще в 1956 году, в дни Суэцкого кризиса, и во всяком случае в 1967, после Шестидневной войны, когда государство Израиль у нас иначе как агрессором не называли, пользовался популярностью анекдот, что Меттер сменил имя на Агрессор. Анекдот не бог весть какой, но меня уверяли, будто он так стал представляться людям при знакомстве: Агрессор Моисеевич. Недавно мне попалось старое письмо Довлатова, из Сосновой Поляны, дачного места на Карельском перешейке. После описания последовательных крахов ряда его предприятий, алкогольных, рыболовных, волейбольных – он решает поправить дело интеллигентным визитом: «Тогда я пошел в гости к Меттеру. Я тут прочел «Войну и мир». /Очень понравилось/. И вот я пошел к Меттеру по этому поводу. Израиль Моисеевич поразительный человек. У него есть автомобиль, но он его не водит, а водит жена Ксана. Я спросил, почему он сам не водит. А Меттер и говорит: «Я, – говорит, – абсолютно здоровый человек. На редкость здоровый для своих лет. Зубы у меня неплохие. В общем, здоровяк. Только один у меня минус – я дальтоник. Вот сейчас разговариваю с тобой, а потом не смогу сказать, какая на тебе была юбка, красная или синяя. Поэтому машину Ксана водит».
«Шуткование» присутствует в письме от начала до конца, но кто пошутил насчет юбки, Довлатов или сам Меттер, не берусь сказать. Визит относится к лету 1968 года, день рождения – к лету 1964, и между ними написан «Пятый угол». Ни джентльмен, ни острослов, ни миляга-симпатяга «Сёлик» ничем не выдают, что и тот, и другой, и третий – еще и автор этой яркой, натянутой, как струна, не прощающей низость, свою и других, прелестной книги. Это история о любви, редкостной, преданнейшей, двойственной, убийственной. В огромной степени определившей судьбу героя и отформовавшей его личность. К женщине, обладающей таким притягательным обаянием, непредсказуемостью и независимостью, какие сравнимы с лучшими образцами литературы. Меттеру удалось написать этот образ настолько убедительно и столь свежими средствами, что у читателя не возникает желания сверить его с собственным опытом. Читатель просто влюблен, любуется и мучается наравне с героем.
История – любовная, реальность – советская. Людей «забирают», потом бьют, топчут ногами, убивают. Отбирают у жизни. Самых дорогих – у самых дорогих. «Родственники и друзья арестованных, – пишет автор, – выучились страшному искусству: искусству угадывания вины, по которой исчезли отец или мать, муж или жена, брат или сестра. В истошном желании оправдать для себя происходящее, оправдать не для того, чтобы выжить, а чтобы жить: ходить на работу, воспитывать детей, есть. Пить и спать, улыбаться, любить, смотреть друг другу в глаза, – чтобы иметь эту возможность и право на это, человек становился дьявольски изобретательным: он искал и находил причины ареста».
Это умная книга пронзительно мыслящего человека. Полная острых наблюдений и тщательно выверенных обобщений. Он делится ими, не делая на этом ударения, делится просто потому, что знает: «Фанатизм всегда доступнее, нежели разумное отношение к действительности. Слепо верующий начинает с того, что не требует объяснений, а кончает тем, что не терпит их». Крупные и малые истины щедро разбросаны по страницам. Если бы он жил в Америке или Европе, он мог быть признан, как писатель ранга Сола Беллоу или Филипа Рота. Но он жил у нас: до Сталина, при Сталине и после Сталина. «Голодая, люди благодарили его за сытость. Погибая от его руки, выкрикивали здравицу в его честь. Этому я был свидетель. И этого я не могу понять. Истории нельзя задавать вопрос: что было бы, если бы?.. Она всегда закономерна. Что было, то было – она рассуждает только так. Не надо мне этой закономерности. Я хочу знать, что было бы, если бы этого не было. И что будет». При такой позиции это счастье, что его не высветил луч большой известности, что он не стал заметен так, как Платонов или Бабель. А остался «ленинградским писателем», одним из.
В заключение несколько слов о «Прозе еврейской жизни». Для некоторых книг включение в эту серию – очевидная натяжка. В частности, для «Пятого угла». Еврейскость среды в ней гораздо меньшая компонента, чем советскость, или украинскость, или простые благородство и подлость. Что мама и папа героя – евреи, а имя автора – Израиль, недостаточно, чтобы загонять ее под эту рубрику, сужая тем самым ее универсальный смысл.
Книгу Примо Леви «Периодическая система» я прочел лет 15 тому назад и, пока читал, а особенно когда кончил, испытывал неотступное желание как-то отозваться на нее. Не статьей, а в каком-нибудь мемуарном эссе, а возможно, в какой-нибудь своей книге. Несколько содержавшихся в ней уровней одновременно подействовали на меня. Во-первых, она была о химии и написана профессионалом-химиком и потому со мной, окончившим химический факультет, говорила как с земляком. Во-вторых, химия для автора и его персонажей была попыткой через постижение материи понять мироустройство в целом. В-третьих, и, вероятно, это главное, она помогла Леви пережить почти год в Освенциме. В-четвертых, оказавшись после войны в советском лагере для перемещенных лиц, он физически приблизился к нашей, в частности к моей, тогдашней жизни. Ну а в-пятых и шестых, у меня было ощущение, что с этим человеком я мог бы разговаривать, не заботясь о том, насколько толково выражаю свои мысли и себя самого: он, я был уверен, понял бы все с полуслова. Сейчас эта книга переведена на русский, вышла в издательстве «Текст», что дает мне основание написать обо всем, что у меня с ней связано, отдельную колонку.