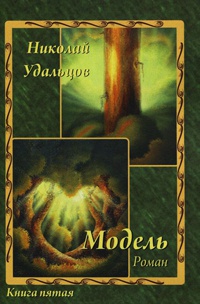Книга Взлетают голуби - Мелинда Надь Абони
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне тогда каждую ночь лошади снились: смотрят они на меня своими грустными глазами и вроде что-то рассказывают мне, и каждая история заканчивается смертью. Один сон я особенно хорошо помню, потому что проснулась в то утро с твердой уверенностью, что должно случиться что-то ужасное. Приснилось мне, будто меня разбудил страшный шум: дождь льет такой, словно потоп наступает. А дома никого нет, кроме меня, ни папуци, ни мальчишек. Выглянула я в окошко и вижу, что лучшая наша лошадь стоит во дворе и не шевельнется, хотя ноги ее уже по колено в воде. Я в отчаянии распахиваю окно, кричу лошади, чтобы она попробовала хотя бы привязь порвать. Да только она, видно, смирилась со своей судьбой, стоит и покорно ждет смерти, а я не могу ей помочь, потому что не знаю, как к ней добраться, столько воды на дворе, что я дверь не могу открыть. А потом вдруг вижу, в руках у меня большая щетка, и я этой щеткой чищу, тру голые кости той самой лошади, которую не смогла спасти. Реву во весь голос, чищу – и надеюсь, что если я это делаю, то, значит, должна воскреснуть моя любимая лошадь.
Папуци я про этот сон не рассказывала, но «визиты» коммунистов к нам становились очень уж частыми, а жадность бывших наших друзей – совсем ненасытной: они ведь теперь были членами единственной правильной партии, я видела их самодовольные морды, их выпученные глаза, видела, как они заглядывают в каждую щель, выдвигают каждый ящик, ища, чем бы еще поживиться; и тогда я сказала папуци, что лучше бы ему спрятаться. Голубушка ты моя, сказал он, да ведь они сами пока не знают, в какую им сторону кинуться, на кого смотреть. Подожди, пройдет немного времени, и они, может, успокоятся.
А через пару дней прибегает к нам Фери, мальчишка соседский, весь трясется и говорит дрожащим голосом, что его отца арестовали. Люди, которые за ним пришли, все забирают, что видят, и уносят с собой, рассказывал Фери, а взгляд у бедного так и мечется, смотрит на тебя и не видит. Лошади, говорит, перепугались, на дыбы встают, копытами бьют, гуси гогочут, как сумасшедшие, собака на что у них ласковая, и то вдруг цапнула одного из пришельцев за ногу, и ее тут же застрелили. Мальчишка говорит, а его так и трясет всего, не может, бедняга, прийти в себя. Я его глажу по голове, чтобы он успокоился, а он переминается с ноги на ногу, плачет и все в ту сторону смотрит, где дом его родителей находится. А мать-то где твоя? – спрашиваю я его. В городе она, на базаре. Яблоки поехала продавать и груши, отвечает он, размазывая слезы и сопли.
Тут папуци встает, идет в кладовую, через некоторое время выходит с набитой до отказа сумкой и спокойно так говорит мне, чтобы я шла с детьми в город, к сестре своей. Погладил он еще Миклоша и Морица по лицу, поцеловал их в лоб. Никогда не забуду, как они на него смотрели: лица бледные, испуганные, будто чувствовали, что сейчас произойдет. Фери тоже возьми с собой, крикнул он, уже после того, как обнял меня и вышел за дверь.
Мамика замолчала, высморкалась, потом попросила меня почистить ей яблоко. Когда я снова села рядом с ней, она, откусывая понемногу от яблока, показала на висящий над головой у нее образ Девы Марии. На шее у Божьей Матери были ожерелья, на руках – перстни, браслеты, на слегка склоненной голове – диадема, грудь же ее была пронзена мечом с украшенной рубинами и изумрудами рукояткой. Но место, куда вонзился меч, это я помню очень четко, было закрыто руками Марии. Святая Дева, сказала мамика, терпит боль, потому что она мать всех нас, она – надежда наша в самые трудные времена. И ни я, ни Номи не посмели ничего сказать, любые наши реплики были бы неуместны и даже кощунственны рядом с тем, что пережила мамика.
Папуци отправили в Пожеровац, в исправительно-трудовой лагерь. Перед этим он несколько недель прятался в кукурузных и пшеничных полях. Выдал его один наш знакомый – надо сказать, знакомый, которого мы всегда рады были видеть, это он шепнул кому-то, то есть, попросту говоря, донес, что папуци каждую ночь, где-то около полуночи, приходит в дом к своему другу Шарвари, чтобы поесть и помыться; через два дня, как рассказывали, папуци и еще четверых местных крестьян увезли куда-то в наручниках, и Бори, деревенская красотка, во всю глотку поливала их, кричала: эксплуататоры! кулаки! – и, пока они не уехали, норовила выдрать им усы. Не случайно время между 1946 и 1952 годом называют у нас временем драных усов.
Но перед тем как увезти папуци в Пожеровац, а потом на угольный карьер, в Костолац, его несколько дней допрашивали и избивали в подвале той школы, куда ходил Миклош. И Миклош, представьте себе, слышал голос папуци, так что учителю большого труда стоило удержать его, чтобы он не кинулся вниз, в подвал; ведь они только и ждут этого, кричал учитель, только и хотят, чтобы ты сам бросился туда, на верную смерть! А освободить Миклоша от учебы он не мог, потому что «исполнители» ежедневно проверяли, все ли ученики на месте. Бедный Миклош, ведь ему было тогда всего одиннадцать лет!
Папуци ни за что не соглашался отдать нашу землю и вступить в партию; помещик! фашист! проклятый мадьяр! – орали на него «исполнители», то есть те, кто исполняет волю других. Наверно, это самое скверное, если ты ни на той, ни на другой стороне и даже ни на какой-нибудь третьей. Как рассказывают, папуци говорил следователям: он всего лишь простой мужик, это все знают, и никогда не хотел быть никем другим. Если его убьют, то пускай убьют как обычного человека.
Папуци я не видела больше года, а когда он наконец вернулся, я его не узнала. Седой, изголодавшийся, изможденный, он постучал в дверь моей сестры, где я жила с детьми после того, как папуци арестовали. Жаль, что вы не видели папуци молодым: держался он гордо, но не высокомерно, волосы у него были такие густые, что скорее походили на шерсть, чем на человеческие волосы, глаза никогда не бегали, а спокойно осматривали все, прежде чем приступить к делу. А теперь? Что сделали с вашими волосами? – спросил его Миклош, ваш отец, который уже давным-давно повзрослел. Там, сынок, не только я трудился, ответил папуци, пытаясь улыбнуться, вшам тоже работы хватало.
Вернувшись домой, он целую ночь рассказывал, что пережил в лагере, и потом никогда больше не говорил об этом. Однажды я его спросила о чем-то, кажется, чем их кормили. Не спрашивай, ответил он, я тебе много рассказал, этого достаточно.
Милый мой папуци так и не смог оправиться. Еще бы, после того, что он узнал и увидел! А у нас – что за жизнь у нас была, пока его держали в лагере! Ведь у нас все, буквально все отняли, и теперь в нашем доме жили «наследники», так называемые товарищи, они хозяйствовали на наших полях, а мы, если б захотели, могли даже выкупить немножко своей земли, лошадей наших продали с аукциона, красный Ласло получил почти всех наших свиней, толстяк Енци из Ады – нашу птицу, я даже запасы наши, варенье не смогла спасти, яблочное, грушевое, вишневое, абрикосовое, персиковое, огурцы маринованные; сколько ни просила я «исполнителей», чтобы отдали хоть то, что в кухне стояло, – нет, пускай лучше протухнет, сгниет. Надо сказать, «наследники» всего лишь месяц назад вселились в наш дом, так что я папуци не обманывала, дом наш в самом деле долго стоял пустой, за ним кто-то из красных присматривал, я об этом от Миклоша узнала, он однажды пробрался аж до колодца и ухитрился даже нашу желтую скамеечку утащить, которая раньше всегда стояла под яблоней.