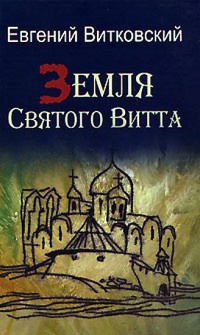Книга Две свадьбы и одни похороны - Дмитрий Старицкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Пистолет тоже оставь.
Мегафон разнес мои слова громко по всей ложбине.
Ваха послушно вернулся, отстегнул от пояса кобуру и положил ее в машину. Потом повернулся ко мне и расставил в стороны руки.
— Номана все. Можешь идти, — согласился я на «встречу в верхах».
Валун стоял ближе ко мне, чем к нему. Большая такая каменюка, высотой чуть больше метра и метра полтора в диаметре. Прямо у «дороги», если можно так выразиться.
Ваха уже шел к месту стрелки, а я все тормозил. Давно уже надо было встать и пойти к камню, но руки и ноги отказывались подчиняться мне, как парализованные. Одновременно пробила мелкая такая трясучка.
Вдруг понял, какой я маленький, слабый и ничтожный по сравнению с этим миром, с обоими известными мне мирами, со всей Вселенной наконец — тварь, букашка. Но как каждая букашка отчаянно цепляется за свою никчемную жизнь — как за высшую ценность Бытия. И все в ней кричит каждой клеточкой: ЖИТЬ!!! ЖИТЬ ХОЧУ!!!
Просто жить, несмотря ни на что.
Ух ты! Я, оказывается, трус поганый. А раньше не знал.
У Геннадия Полоки, в «Интервенции», герой, которого гениально сыграл Владимир Высоцкий, произносит такую сентенцию: «В контрразведке тебе сначала предложат папиросу, а потом — жизнь. Папиросу взять можно, а вот жизнь — нет».
А мне СТРАШНО!
ЖУТКО страшно!
ХОЧУ взять жизнь!
ЖИЗНЬ!!!
А тут надо вот так вот: взять и ВСТАТЬ ПОД ПУЛЕМЕТ.
Не оставить себе ни единого, даже призрачного шанса остаться в живых.
Чтобы этот пулемет навертел во мне много-много мелких дырок.
ВО МНЕ!!!
Не поручусь за точность цитирования, но эта мысль о жизни и папиросе настолько пронзила меня до пяток, что заставила впервые в жизни обратиться к Богу с молитвой.
«Боже, — взывал я мысленно, тычась носом в сухую траву, — если ты только есть! Помоги мне сохранить пасомых моих, чтобы они имели хотя бы возможность припасть к стопам твоим. Они мляди и грешницы, но не ты ли сам предпочел раскаявшуюся блудницу Магдалину тем бабам, которые никогда не грешили? Я пытался убежать, но не смог. Я пытался всех обхитрить, но не сумел. Меня догнали. Меня обхитрили. Боже, укрепи мою мышцу, укрепи мой дух, ибо сам я слаб. Дай силы мне, ибо я всего лишь человек, а не Рэмба голливудская».
Отложив в сторону карабин, лежа отстегнул подсумок с магазинами, вынул хромированный кольт из кобуры, передернул затвор и засунул его за пояс на спине. «Когда ни помирать, а все день терять!» — говорили мои предки. И их мудрость так придала мне недостающих сил, что я, кряхтя и мелко подрагивая, встал на колени и выпрямил спину.
Никто не стрелял, но вставал я из-за своего укрытия с обреченным чувством бойца, поднимающегося в атаку под ураганным огнем противника. Жутко захотелось продлить это мгновение, впитать в себя окружающий лик чужой Природы; вздохнуть ноздрями в полную силу ее запах; обнять своих девчат… Но, увидев, что переговорщик от бандитов прошел уже половину расстояния до валуна, торопливо несколько раз перекрестился, быстро поднялся на ноги, опустил шемах на шею и пошел к этому чертову камню сам, непроизвольно подрагивая поджилками.
В голове — полная шизофрения. С одной стороны, я молча продолжал истово молиться, то есть совершал «умное делание»[127]для укрепления своего слабого, как оказалось, духа. А с другой — в той же голове билась, постоянно натыкаясь изнутри на кости черепа, фраза из песни: «Тут старшой Крупенников встал, как на парад»,[128]взывая к предварительному оплакиванию моей никчемной тушки, которая очень скоро станет дырявым чучелком.
И вдруг, на очередном трудном шаге, за одно мгновение ясно осознал, как прозрел, что я уже мертв. Мертв с той самой секунды, когда покинул СВОЙ мир и очутился ТУТ, в ИНОМ мире — ПОТУСТОРОННЕМ. А если я уже мертв, то какого хрена я буду эту блатную мразь страшиться. Он меня второй раз убить уже не сможет.
«Спасибо тебе, Боже, — поблагодарил мысленно. — Спасибо, что пришел на помощь. Спасибо, что не оставил меня в сей трудный час».
И я, мертвый, остановился, не доходя шага до валуна, держа его слева от себя, и глядел на подходящего ко мне бандита глазами зомби.
На душе вдруг стало спокойно и легко. И дрожь исчезла. Правы оказались самураи, которые каждый день с утра напоминали себе, что они уже мертвы.
Когда Ваха не дошел пяти метров до валуна, я сказал строго:
— Стой там. Еще шаг — и мой снайпер сделает в твоей бестолковке лишнюю дырку для вентиляции.
— Ай-вай, и руку даже не пожмешь? — покачал Ваха головой, однако остановился, хотя и сделал лишний шаг.
Был он коренаст, хотя и не маленького роста. Силен и поджар. Суровый супостат. Светлые глаза. Рыжий волос, щетина на подбородке тоже рыжая. Даже ресницы и те рыжие. Кавказец. Явно горец — там много рыжих. Да почти каждый «черный» кавказский народ заявляет, что настоящие их представители рыжие и светлоглазые. Ага… Белые и пушистые, как же иначе.
— Еще чего, — ответил я брезгливо. — Может, ты горлом трипперный.[129]Законтачусь[130]еще ненароком. Что сказать хотел — говори.
Ваха смерил меня с ног до головы злым глазом. Поморщился. Сказал презрительно, словно констатировал что-то или отвечал незримому сейчас оппоненту:
— И чего в тебе бояться?
— Неизвестного, — ответил я, ухмыляясь.
— Ну-ну… — Ваха с сомнением покачал головой и перешел к делу, за которым пришел. — Значит, так… Девок оставляешь здесь. Всех. Сам берешь хабар с автобусом и звиздуешь на все стороны. Предложение более чем щедрое. Цени.
— Больно ты борзой, как посмотрю, — сказал я, глядя ему в переносицу. — А может, в Одессе ЛЮДИ за нас СЛОВО скажут. Что ты мне на это сбрешешь?
— В Одессе тебя никто не ждет. Проверено, — уверенно заявило лицо кавказской национальности.
— Не там проверял. Не твой уровень. Ты слишком мелко плаваешь, сявка. — И сплюнул в сторону его ботинка.
— Слушай, Ваня, я твой нюх топтал. — Ваха стал не на шутку заводиться.
— Я вот думаю, — перебил я его, скользя взглядом по его рукам, — а не западло[131]ли мне с тобой базарить. Может, ты крыса?[132]Откуда мне знать? Ты мне малявы[133]от ЛЮДЕЙ не принес.