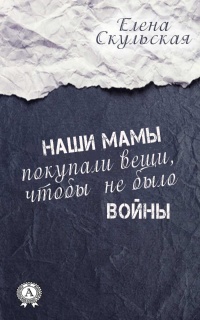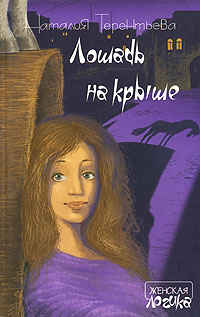Книга Есико - Иэн Бурума
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Но Ри Коран продолжает жить в фильмах, — отважился я. Мне хотелось польстить ей, но искренне.
Но вместо того, чтобы принять комплимент, Ёсико наклонила голову, и у нее вырвалось:
— Глупо, глупо, глупо! — Она произнесла это с неожиданной страстью молоденькой девушки, колотя себя кулачками в грудь. — Почему я позволила обмануть себя этим милитаристам? В отличие от тебя, папа. Я была орудием в их руках! Эти милитаристы и эта их ужасная война… они сделали меня их сообщницей, заставили участвовать в этих гадких пропагандистских фильмах. Знаете, как это унизительно, Сид-сан? Быть сообщником в этой жестокой войне… Вы понимаете, как это было ужасно?
— Ну, ладно, ладно, — сказал Кавамура. И, повернувшись ко мне, предложил: — Еще вина?
— Возможно, — продолжала Ёсико, — я больше никогда не буду сниматься в кино. — Она произнесла это с решительным видом. А потом, улыбнувшись, добавила: — С этого момента я просто Ёсико Ямагути, и моя жизнь будет посвящена миру. Да, именно так и будет!
— Ладно, ладно, — повторил Кавамура. — Слышал, что вы работали в Голливуде, господин Вановен. Я даже не помню, сколько времени прошло с тех пор, как я был там в последний раз. А с кем вы знакомы в Голливуде?
Я назвал имя единственного знаменитого человека, которого знал. Кавамура с интересом взглянул на меня:
— О, да, Фрэнк Капра, замечательный режиссер.
Ёсико улыбнулась — наверное, ей было приятно, что я произвел впечатление на Кавамуру, — и сказала:
— Он узнаваемый?
Не знаю, относился ли этот вопрос ко мне или к ее патрону. Во всяком случае, никто из нас не дал немедленного ответа.
В жизни цензора случаются небольшие вознаграждения за труды. У меня была бесценная возможность увидеть многие фильмы в их оригинальном виде — до того, как политика или мораль заставили нас взяться за эти ужасные ножницы. Не скажу, что все фильмы, которые мы смотрели, действительно стоило смотреть, но иногда нам везло, и мы становились свидетелями рождения шедевра. Одним из таких шедевров была картина, которую снимали, когда майор Мерфи и я посещали киностудию «За мир на Востоке». «Пьяный ангел» Куросавы стал для нас откровением: образ молодого гангстера, очеловеченный его страхом смерти, и алкоголика-врача, искупающего вину состраданием. Но прежде всего — сама атмосфера фильма, с которой я был так хорошо знаком: танцевальные залы, черные рынки, бедная, убогая и жестокая жизнь в разрушенном городе, который вонял мертвечиной. То, что на съемочной площадке выглядело хаотичной мешаниной из прожекторов, микрофонов и фанерных фасадов зданий, на экране чудесным образом ожило. Я восхищаюсь магией этого фильма, как религиозный человек в местах богослужения восхищается оконными витражами и ликами святых, озаряемых огнями свечей. Вот чем кино и было для меня — чем-то вроде церкви, где я возносил в полумраке молитвы своим святым, разве что мои-то на самом деле святыми не были, они были настолько смертными, насколько это вообще возможно. Пресуществление[38]света, проходящего через целлулоид, чтобы раскрыть саму жизнь, — вот что было чудом кинематографа.
Мифунэ,[39]весь из себя гангстер, агрессивный и развязный внешне, но ранимый, почти как ребенок, в душе. Именно это качество восхищает меня в японских мужчинах — и в кино, и в жизни. Подчиняться им, поклоняться их нежной и гладкой юношеской коже, проводить рукой по их податливым бедрам, утыкаться носом в изысканный пучок волос на лобке — для меня это как возможность сбросить с себя мое взрослое «я» и найти обратный путь к невинности — естественному состоянию японцев, в которое мы, люди западного мира, испорченные познанием греха, должны возвратиться.
«Пьяный ангел» не затронул воображения майора Мерфи. Он на самом деле не понял, в чем смысл фильма. Для меня же Тосиро Мифунэ был идеальным японским мужчиной. Но Мерфи только и сказал: «Подумаешь, еще одна история про тупого гангстера». Хуже того, он не разглядел в этом фильме идеи — или идея эта была не из тех, которую таким, как он, легко распознать. Не было в этой картине пафосно-приподнятого финала, который всегда так нравился Мерфи, не было хеппи-энда, который согревал бы наши холодные сердца. Его душу будоражили совсем другие картины. Так, один из его фильмов-любимчиков стал cause célèbre, отличился скандальной славой и впоследствии даже оставил в истории едва различимый след. Фильм назывался «Время тьмы», и снял его весьма известный в то время режиссер Нобуо Хотта. Я восхищался этим храбрым интеллектуалом с изможденным лицом праведника. О своей внешности он особо не заботился, одежда его всегда была в беспорядке, волосы всклокочены. Но Хотта был одним из немногих людей, которые никогда не шли на компромисс с властью. Он защищал свои убеждения, многие из которых я не разделял, но не в этом дело — главное, он был человеком принципа. До войны его знали как убежденного марксиста, и также знали, сколько он выстрадал, когда власть в Японии захватили милитаристы.
С самого начала Мерфи проявил личную заинтересованность в картине, даже приходил просматривать свежеотснятый материал и давал свои предложения. Я не уверен, что их всегда с удовольствием принимали, но японцы по меньшей мере притворялись, что очень благодарны за его вмешательство. Хотта был мыслителем, Мерфи мыслителем не был никогда. Но каким-то образом эта странная парочка находила общий язык. Они оба были идеалистами. И хотя их представления об идеальном обществе не совпадали, взаимной приверженности к демократии было достаточно, чтобы сгладить разногласия. Я всегда морщился, когда видел, как Мерфи лупит своего японского друга по спине, но Хотта, казалось, совсем не обращал на это внимания. Американцев он любил за их «искренность» — слово, которое, как я всегда подозревал, могло также обозначать отсутствие утонченности или хороших манер. Быть искренним — все равно что быть невоспитанным.
Мерфи, вне всякого сомнения, был искренен. Один из их споров до сих пор сохранился в моей памяти. Так, Мерфи считал, что у фильма слишком мрачное название.
— Конечно, — говорил он, — в наших книгах по истории есть темные страницы, но разве мы не можем использовать что-нибудь из сегодняшних дней, дать какую-то надежду будущее? — Его лицо засветилось блаженством, как у провидца. — Как насчет «Свет после мрака», или «После тьмы — освобождение», или… — Здесь ему пришлось призадуматься. — «Выученные тяжелые уроки жизни»?
Все эти предложения Хотта отвергал, не забывая при этом все время благодарить Мерфи за его замечательные советы. Не для того он сопротивлялся японским милитаристам, чтобы стать лизоблюдом у американцев.