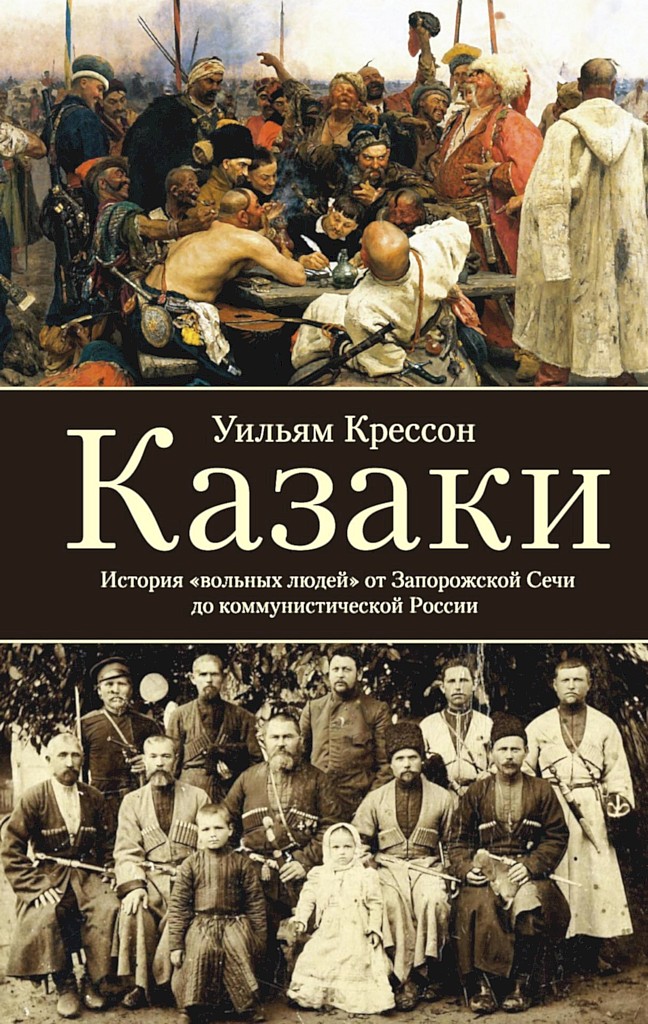Книга Образ Беатриче - Чарльз Уолтер Уильямс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Автор рассказывает историю Уголино[115]. Рассказ уместен здесь по многим причинам, но одна из них заключается в том, чтобы показать грех по мере его развития. Ужасной картине, нарисованной Данте, предшествовали события, происходившие на земле. Зло, совершенное графом Уголино в жизни, обернулось злом в посмертии и стало произведением искусства, а также духовного контраста. Руджиери предал гостя. Он отомстил? Это доставило ему удовольствие? Он, как и Уголино, получил то, что заслужил, в том числе и за смерть невинных детей.
Мы шли вперед равниною покатой
Туда, где, лежа навзничь, грешный род
Терзается, жестоким льдом зажатый.
Там самый плач им плакать не дает,
И боль, прорвать не в силах покрывала,
К сугубой муке снова внутрь идет;
Затем, что слезы с самого начала,
В подбровной накопляясь глубине,
Твердеют, как хрустальные забрала.
Здесь Данте ощущает легкое дуновение ветра.
«Учитель — я спросил, — чем он рожден?
Ведь всякий пар угашен здесь навеки».
И вождь: «Ты вскоре будешь приведен
В то место, где, узрев ответ воочью,
Постигнешь сам, чем воздух возмущен».
Серые железные скалы остались позади. Вокруг — ледяная равнина и души, полностью вросшие в лед. Похоже, поэт пал духом. Он прошел всеми адскими кругами и обозначил свой Путь. Начался он с того момента, когда его воображение замерло в неустойчивом равновесии в Лимбе, а затем, не заметив первого компромисса, отправился дальше, туда, куда звали его личные амбиции. К этому времени Любовь уже оставила его, а дальше ждала неизбежная ненависть ко всем этим падшим душам, не устоявшим перед соблазнами. Затем пришел гнев, и гнев сохранил его, породив ненависть не только к любым оправданиям, но и ко всем прочим вещам под солнцем. Теперь оставался только уход из мира живых к его собственным кипениям души. После этого он становится упрямым; в первом круге он ставит под сомнение собственную целостность, поскольку в ней кроется признание чего-то большего и отличного от себя; это приводит к интеллектуальному и моральному еретическому упрямству.
Поначалу упрямство вынужденное, но оно недолго помогает ему сохранить душевное равновесие. Данте все глубже погружается в многообразие грехов, испятнавшее весь мир, а ведь никакого другого мира, из которого он мог бы черпать свое поэтическое вдохновение, нет, так что ему приходится довольствоваться этим единственным. Что он и делает. Он неизбежно попадает в места, где жгут, калечат, где души мучимы всеми мыслимыми болезнями, и все они похожи на него, все жили когда-то в его мире. Иногда он превращается в них, иногда — нет, но в любом случае у него нет других сил изменить положение дел, кроме его поэтической силы. Однако воля его больна, и это чувствуют там, наверху, откуда была послана ему помощь. В конце концов, поэт становится жестоким, он даже способен на предательство, как и те, кто его окружает.
Он встречает душу, одну из многих, неспособную излить свои страдания слезами сквозь ледяную корку, покрывающую лицо. Боль от мучений не позволяет осознать свое горе и подумать о раскаянии. Душа несчастного оказалась здесь еще до смерти тела, в котором теперь хозяйничает адский дух. Он остался один на один с этим стылым пространством, где никто не говорит, никто не слышит, никто не поможет. Есть только холод, превращающий слова жалоб в едва заметное дуновение. И Данте, пообещавший убрать лед с его глаз в обмен на рассказ о грехах бывшего инока Альбериго[116], «рукой не двинул, // И было доблестью быть подлым с ним».
Вергилий предупреждает подопечного: «Vexilla regis prodeunt inferni» — «Приближаются знамена царя Ада»[117]. Наконец поэт увидит то, к чему стремился. Он все время знал, что небеса нельзя обмануть. На всем пути искажения одного образа за другим его наказание шаг за шагом сопровождало его. Он сам выбрал его, и теперь оно перед ним. Поэт пытается укрыться от жестокого ветра за спиной Вергилия, его единственного убежища, олицетворяющего культуру, благородство и все высокое, что может быть на земле. Но что может Вергилий перед лицом Дита?[118]
Мы были там, — мне страшно этих строк, —
Где тени в недрах ледяного слоя
Сквозят глубоко, как в стекле сучок.
Одни лежат; другие вмерзли стоя,
Кто вверх, кто книзу головой застыв;
А кто дугой, лицо ступнями кроя.
Вергилий отходит в сторону, пропуская Данте вперед, и представляет: «Вот Дит, вот мы пришли туда, // Где надлежит, чтоб ты боязнь отринул». Легко сказать: отринуть боязнь, но пред ликом Люцифера Данте немеет.
Я не был мертв, и жив я не был тоже;
.........................................................
Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину;
И мне по росту ближе исполин,
Чем руки Люцифера исполину;
.....................................................
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем.
Теперь он видит того, кто вечно обижен и вечно отчаянно восстает против вышней воли. Перед ним трехликий властелин скорбного царства. Все шесть глаз точат слезы, все шесть крыльев вздымают ветер, вымораживающий Коцит и предателей, вросших в лед. Зубами и когтями он гложет и дерет трех архигрешников — Иуду, Брута и Кассия, тех троих, что безжалостно предали Христа и Цезаря, Бога и Императора.
Мильтон тоже представлял сатану, но у него сатана активен, а здесь активно лишь его стремление. Шекспир изображал предательство, доведенное до каннибализма[119]. Предательство всегда поедает предательство. Изображение вмороженного в лед сатаны — образ, который непостижим ни в жизни, ни в смерти, но тем не менее образ вполне конкретный. Это конец Пути, начало которому