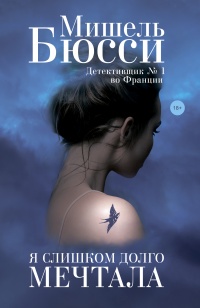Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Какой там социализм. Какие там братские страны. Какое там падение стены. Стены воздвигались всё выше, внутренний и внешний миры были напрочь отрезаны друг от друга. Меня преследовала идея порыться в телефонной книге и позвонить туда, на ту сторону. И что потом? Спросить детское имя и этаж проживания, зареветь, сказать, что скучаю, услышать, что мы позорно смылись, вовсе не «заре навстречу»? Интернет станет доступным лишь лет через десять. Этот Берлин не приживался во мне, а я в нём, мне было ещё одиноче, чем одной. Город казался мне голым, а сама я была – пара-нечто, не пришей кобыле хвост. Это состояние имело с тем миром лишь одно общее обстоятельство, на него обратила внимание моя мать: в Берлине, как и в Крыму, не нужна шуба – здесь хотя и неприветливые зимы, но не настоящие.
Мои родители и братья завидовали моему немецкому лепету («ребёнку это даётся легче»), а я им завидовала в том, что они в своих чемоданах и головах привезли с собой знание, помогающее им на бывшей территории войны ориентироваться на внутреннее умиротворение. Они узнавали здесь что-то знакомое. Война, оказывается, связывает. Им были интересны следы пуль на стенах, исторические процессы, Инвалиденштрассе, аура Штирлица, Семнадцать мгновений весны. Они как будто угодили в нужный фильм. Пара таких мгновений – и ты движешься уже иначе, можешь чего-то ждать от города, он заговорил с тобой.
Мне же был скучен этот музей под открытым небом, я никогда не была с историей «на ты». Иногда я неделями не произносила ни слова, спала по двенадцать часов, за партой клевала носом так же, как и в Пергамон-музее. Никакая новизна меня не трогала. Про меня говорили, что я выгляжу старше своих лет, серьёзная, вдумчивая – то есть ребёнок всё-таки присутствовал отчасти – со слишком совершенным немецким языком, который кому-то, может быть, о чём-то говорил; мне нет.
Мой немецкий я ре-оккупирую русским языком, и когда я буду великаном, я смогу себя переводить. Пока же это так: когда я считаю, что владею нем., он меня проводит, причём не в ту степь. Он играет со мной злые шутки: играет мне другую музыку, чем тем, кто меня слышит. Он – игрушка и одёжка, которая мне осталась, я успешно маскировалась им вплоть до замужества. Потом меня отбросило назад к тому, что он и я культурно несовместимы – муж выстрелил мне в ахиллесову пяту: он запрещал мне писать по-немецки («ты не носитель языка») и говорить по-русски с ребёнком («ты воспитаешь иностранца»). Себе он не позволял любовь (это «слишком»). Юмор был бессилен против этого. У него появился свой, наш общий смылся.
Несколько лет – дневник в стихах-ах-ах, без оглядки на потерю значения, без страха перед обретением обречённости. Вперёд и вверх к седьмому чувству-смыслу!
Но да, я одумываюсь и вспоминаю: хорошие оценки по всем предметам, кроме физкультуры и музыки, эдакие спасательные круги для родителей и для эго. В остальном заносчивая ассис-тётка, унесённая раздражающим потоком асси-миляции, в принципиальной и нелинейной зимней спячке. Несколько зим были отнюдь не мягкими. Ни одного мгновенья весны. Я мёрзла, отказывалась от мяса (а жареные куриные ноги прибегали на сковородку постоянно – как компенсация за всю перестроечную нехватку), пила чай и кофе, питалась шоколадом. Шок-glück-оза. Упоительные «поцелуи негра», хрустящие обезглавленные мавры, белая пена на губах. Имперская прогулка верхом по картинам импрессионистов в освоенном таким образом западном мире. Своеобразно стало ясно: в сладком нет ничего особенного, в понимании Запада. Именно это и вызывало шок: за продуктами нет никакой охоты, в изобилии избегают калорий. Всё должно быть сбалансировано и контролируемо, от близости до питания. Уже само слово «шок», казалось, было искусственным преувеличением – слишком притянутое сравнение, слишком подчёркнутое, слишком жирное.
Приют искусства и выбора мировоззрения предоставлял свободное место – при безбилетной езде, при рисовании чёрной краской, хотя и под разноцветной радугой. Беженец по квоте, чужой в стране чудес, турка среди турок следует сладкому следу – открыл для себя культурку и перекрыл доступ воздуха. Позднее моему сыну передалось нарушение дыхания, он сперва молча глядел на мир, с пуповиной вокруг шеи. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре – и он быстрее всех нас преодолел преграду, как и полагается юному поколению, с лукавой улыбкой пройдохи. Он прекрасно приспособился к этому миру и заодно воспитал меня: просунул-таки упрямую голову в свитер материнской вязки. Омолодил дедушку с бабушкой, наших молодцов. Мы заново научились вместе смеяться, даже над поговорками, которым его научил его отец, типа: «У тебя есть мать – тебе не голодать. Пока пеклось – годилось, потом не раскусилось». Вот так, сказал бедняк.
Моя мать годами искала фарфоровую посуду на замену той, которую оставила. По тому сервизу – а он был визой её праздничного стола и кофейного утра – она ещё долго горевала. Вместе с чугунной сковородкой для блинов он стал фетишем её ностальгии. Посуда должна быть филигранной, с цветочным рисунком, золотой каёмкой, по-дрезденски, дездемонически – из оперы для дедушки и бабушки, спектакль за стеклом буфета.
На блошином рынке, куда мы ходили в выходные наших первых двух лет, чтобы собрать необходимые предметы для домашнего хозяйства, она разговорилась с женщиной из Польши. Я их не понимала, притом что говорили они на славянском наречии и хорошо понимали друг друга. Они улыбались, их разговор носил в себе что-то конспиративное. Я побоялась вникать. Они о чём-то условились, и через неделю мы опять отправились на тот блошиный рынок.
Женщина из Польши привезла в своём автомобиле несколько килограммов того, о чём они договорились. Я впервые задалась вопросом, как далеко или близко от Берлина до Польши и как далеко это кажется тому, кто ездит туда и обратно за рулём. Они тайком перегрузили товар из багажника в сумку, несколько килограммов! Мама достала из бумажника дойчемарки. Как в Греции, у нас всё есть – то была гречка, в здешних магазинах она тогда не продавалась. Купленная на чёрном рынке, она особенно вкусна. Прекрасный гарнир с названием Buchweizen, первый слог которого обозначает по-немецки книгу. И не с бухты-барахты мать так легко договорилась с продавщицей – оказалось, мама говорила по-украински, а та отвечала ей по-польски.
В Кракове, когда я пыталась изучать польский, эта сцена взаимопонимания над гречкой мотивировала меня не расслабляться с этим языком, полным «ложных друзей переводчика». Я нашла там и других друзей, не ложных: моя соседка по комнате провела детство в ГДР, её семья бежала в Западную Германию незадолго до 1989 года. Она решительно отвергла мой тезис, что жизнь в ГДР была бананово-сливочной по сравнению с моей провинцией Советского Союза вдали от двух метрополий, процветавших в том числе и за счёт польских товаров. Я перегрузила её моим детством, она воздвигла между нами оборонительную стену, но однажды утром эта стена рухнула – в шутку я назвала её за завтраком, который она поглощала с помидорами, коханье. Я до сих пор люблю её, помидоры и это слово. И мне нравится, что любовь приходит через желудок. Через фотографии у неё на кухне (разумеется, она готовит – kocht – отлично) и через вид из её окна в Нойкёльне я вновь полюбила Берлин. Первый взгляд не всегда решающий. Решает то обстоятельство, направлен ли он в перспективе на разделяющее или на связующее.