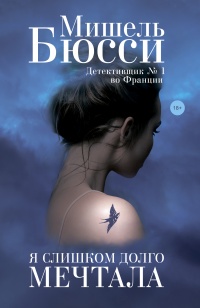Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ирония судьбы: мы часто ломимся в открытую дверь, испытывая при этом боль, но не знаем, какая из двух одинаковых дверей закрыта. Мои родители открыто говорили – и это поверх непременных детских обид всего важнее: они уехали не из-за своих предков, а ради своих детей. Мужественные матросы в военных клёшах, военно-морская семья с чёткой линией, и куда бы они ни курсировали, куда бы их ни буксировали, они придерживаются своего курса. Они верят в семью и в то, что за неё стоит бороться. Между тем я боюсь, что этот слом ещё аукнется нам, и мы взаимно сдвинем с места все наши координаты, зато последующие поколения смогут расслабленно сидеть на западно-восточном диване и продолжать то, что закрепилось у таких, как я: рисуешь свой восточный портрет совестливо и совместно со многими другими, которые, может, уже не молчат о предках из СССР и не трындят про берлинский мультикульти – то портрет тебя ведёт, то ты его, шаг за шагом, зигзаг за зигзагом. Выбор быстрейшего (вы)хода.
Недавно профессор, похвалив меня за мой немецкий, углубился в расспросы, почему моя семья не уехала в Израиль. Я сказала, что родители принимали решение по критерию культурной близости, а они чувствовали её сильнее к стране поэтов и мыслителей. К тому же моя мать не хотела изучать неевропейский язык и не хотела, чтобы её дочь служила в армии. А отец говорил, что он ведь родился в Потсдаме, почему бы ему не вернуться на историческую родину. И они смеялись. Культура – вопрос традиции, идентичность – дело самовольное. Отец прекрасно ориентируется в Берлине, даже среди перестроенных 90-х. Всякий раз, когда он легко находил нужную улицу и умело спрямлял путь, мы шутили: ну да, ты же местный, не то что мы.
Эти русские пришли в Берлин, победно, прежде всего благодаря истории. Бедные, голодные до жизни, они им овладели. Громадное желание: вобрать в себя серое небо, заглянуть за обшарпанные фасады, ощупать их на предмет следов Второй мировой войны и: пережить свободу (назовём так пакет переживаний, в духе самоисполненного пророческого извинения). Но эта слобода не далась мне в обладание, при всём желании. Блин-Берлин выскальзывал из рук, его нельзя было начинить ни сметаной, ни вареньем, не говоря уже об икре. Он не давал удержать себя в руках, он не имел запаха, который соблазнил бы на бесконечные усилия. Он выпрыгивал из горла как предательски раскатистое Р. Блин, что за прыжки через стену.
Нет чувства городской поверхности, её трещин и шрамов, её смелости и серости. Небо над Берлином красится пылью природных полотен сожаления, в цвета асфальта, бетона, бидонов, с которыми мы в прежней жизни рано утром становились в очередь за молоком. Никакого «я могу», иногда «я могла бы», но какое «могла бы», если даже молоко не имело вкуса молока. «Я» растекалось, в каждом районе оно пыталось дать себя чему-нибудь очаровать и впадало прямиком в причудливое экспрессионистское стихотворение.
И, напротив, этот город очень быстро стал городом моих родителей. Что-то во мне противилось – ещё и в соответствии с возрастом. Как ни жалко, мне казалось, везде вопиющая вонь, и вот жалко у пчёлки – хоть закрытые, хоть открытые двери. Открыты были как правило двери осси или детей осси, у которых был интерес к русским. Любопытство открывало двери, и чёрт знает что потом шумно хлопало ими, с отзвуком их репрессий, прямо в пылесос моего депрессионного полотна. Даём задний ход – обратно на палубу севастопо-лоджии.
Ложка льняного масла стимулирует пищеварение. Гип-гип, ура. Говорилось, город «в тренде», Пренцльберг – оплот искусства. Какой там оплот – аборт. Какая там гора, какие художники, а проникнуть в эту среду со стороны без настоящего по-диссидентски пахнущего прошлого и понять их так же невозможно, как интеллигентские круги, из которых питается фонд обучения немецкого народа. Да, интересно, между прочим, вывести художественную ауру из их сухопутных клёшей, а при случае из слегка прогорклых морщинок и порочности вокруг глаз. Но мне это ни о чём не говорило, и мне нечего было сказать. Я не располагала ни их историей, ни их словами, близость авторши и протагонистки приводила к неудержимому отчуждению. Ни адресатов, ни адресов. Мы переезжали, мы ладно научились складывать вещи, за один день из бывшего Восточного Берлина в запахший летом Западный Берлин. Через восемь трудных лет мы могли подавать заявление на гражданство, мы могли предъявить скромную жизнь без правонарушений. Все те оцепенелые годы в статусе «без гражданства». Непризнанный синоним бессловесных.
Я нацепила безакцентную и беспорочную маску немки, чтобы не выделяться в Марцане. Чтобы в парке по дороге в школу к тебе не приставал какой-нибудь носитель куртки бомбера, чтобы не быть побитой пьяным или обкуренным в том же парке (собственно, не парк, а протяжённый луг с болотом посредине), как это случилось с русским немцем из нашей школы, с тех пор вообще не говорящим; чтобы не грозили ножом средь бела дня в воскресенье, когда я «как раньше» хотела идти гулять, прерывая бездвижность и бесчувственность серо-коричневого бетона.
Перед этим я выпила какао, чувствовала себя сверхсытой и пресыщенной от скуки. Эта «уютность» очень опасна. Я подалась куда глаза глядят. Слева и справа тянулись панельные дома, дальше взгляд уходил на длинную и – хоть кричи – пустую улицу Рауля Валленберга, ведущую к станции Эс-бана. Впереди меня шёл мужчина, довольно медленно, я почти догнала его, но он немного ускорил шаг. Не помню, чтобы я уделила его фигуре какое-то внимание. Вдруг, когда я почти обогнала его, он развернулся, выхватил нож и спросил, почему я его преследую. Я попыталась объяснить, что я просто выгуливаю сама себя. Но мой словарный запас оказался недостаточным. Зато его – достаточным: «Сраные иностранцы. Ещё раз увижу – зарежу».
Кто бы мог подумать, это Германия в выходные в разгар питья кофе. Вообще-то, ничего же не случилось, не стоит обращать внимание, такая карма, звучит уже почти как корм… Виновата была всепоглощающая пустота. После этого я не могла успокоиться, я спрашивала себя, почему вокруг не было ни души: прогуляться, проветриться, наполнить себя свежим воздухом перед началом новой недели, ведь это, как-никак, одна из основных человеческих потребностей, даже основное право, чтобы не наступила ни ужасающая пространственная, ни душевная пустота. Естественнее всего после этого было бы идти в полицейский участок, а не молчать. В Цюрихе это далось бы мне легко, здесь у меня подруга полицейская, но, к счастью, здесь у меня нет досуга.
Тогда мы жили в 18-этажной высотке прямо перед Форумом досуга, в котором размещалась районная библиотека. Досуг у меня был, и даже в избытке. Я снова спрашивала у братьев, что мне почитать, и то, что из этого находила на полке, читала – в том числе Диккенса, Стивенсона, разумеется Агату Кристи и тома с наклейкой «Смешное». В моей словарной тетрадке выстраивались на корме и на носу, кренились и брали на абордаж списки устаревших и новых слов. Каждый день у меня появлялось хотя бы одно любимое слово. Querulant, сутяжник, продержалось дольше остальных. На школьных переменах я читала что-нибудь из Bravo и учила наизусть имя клавишника из Take That – алиби-ответ на вопрос, который постоянно занимал моих одноклассниц: кем я увлекаюсь. Несмотря на это, я бравурно попадала на шкалу популярности, будучи в школе одной из трёх иностранцев, кто проходил сквозь ячейки установленного сетчатого заграждения. Я хотела когда-нибудь стать текстовичкой для Круга друзей. Однажды я заказала на радио песню – теперь уж не вспомнить, какую. Началась анемия, у меня регулярно темнело перед глазами, я падала с ног.