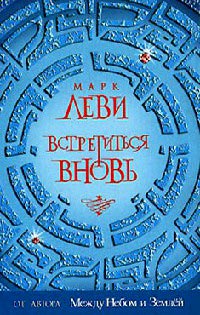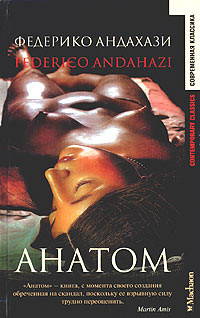Книга Синагога и улица - Хаим Граде
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Мой сын — святой, — и ушла.
Йоэл побежал по синагогальному двору и по заснеженным переулкам, крича:
— Мама! Мама!
Он спрашивал о ней на слонимских постоялых дворах, в странноприимном доме, у прохожих — ее нигде не видели и ничего о ней не слыхали. Когда после всех поисков он вернулся в синагогу подавленный, один еврей рассказал ему, что как раз был во внутренней комнате синагоги, когда его мать вошла туда и положила свой узелок. Вскоре она вернулась, забрала узелок и ушла.
Тогда от боли и стыда он захотел сделать что-нибудь дурное. На то, чтобы поехать домой посреди семестра, у него недоставало денег, да к тому же было стыдно перед раввином и обывателями. Ведь все считали его очень усидчивым и богобоязненным учеником. Так как же он может прервать учебу посреди семестра? Еще более, чем перед слонимскими евреями, ему было стыдно перед матерью. Она сказала про него: «Мой сын — святой». Она ведь очень огорчится, если он посреди семестра прервет учебу. Поэтому он остался в Слониме и решил, что на этот раз в начале месяца нисан[147] поедет домой на Пейсах. Однако на третьей неделе адара[148], за неделю до отъезда, он получил от отца письмо, сообщавшее, что он должен читать по матери кадиш.
Домой на Пейсах он вернулся уже с разорванным в знак траура рукавом[149]. Отец рассказал ему, что мама проделала путь из Утяна до Слонима наполовину пешком с ватагой нищих, наполовину — на извозчичьих телегах, а по дороге не стыдилась просить милостыню. Так же она и возвращалась из Слонима в Утян. Йоэл пристал к отцу, чтобы тот рассказал ему, простила ли его мама за то, что он тогда не прервал молитву и не вышел к ней. Однако отец либо не хотел отвечать, либо не знал, что ответить. Он рассказал только, что после возвращения из долгой зимней дороги мать заболела воспалением легких и, горя в жару, все время повторяла: «Мой сын — святой! Мой сын — святой!»
20
Реб Йоэл услышал за спиной сдавленный стон в мужском отделении синагоги и громкий плач в женском. Все, кто вышел из синагоги во двор остудиться, возвращались к чтению молитвы «Изкор». Повернувшись лицом к стене, реб Йоэл держался руками за серебряный ворот своего талеса, и слезы стекали по его лицу в бороду. Ему было уже шестьдесят лет, но до сегодняшнего дня он все еще не мог простить себя за то, что сорок три года назад не прервал молитву и не вышел к матери. Каждый год в трепете великого Судного дня, вспоминая тот малый Судный день кануна месяца шват в Слонимской ешиве, когда ему было семнадцать, он видел свою мать, укутанную в тряпки, ее ноги в онучах, видел, как она бредет вместе с ватагой нищих попрошаек по глубокому снегу в морозы и вьюги. Нищие идут от местечка к местечку собирать милостыню, а мама идет в Слоним посмотреть на своего ученого сына, который не приезжает из ешивы домой даже на праздники. А когда мама дотащилась до синагоги, ее сын, этот глупый праведничек, не захотел прерывать молитву. Хотя сердце трепетало и подталкивало его выйти навстречу матери, он преодолел это стремление, потому что богобоязненность важнее заповеди почтения к родителям. И мама ушла назад, в зимнюю вьюгу, в мороз и снег, оставив ему только одну фразу, ставшую для него вечной загадкой: «Мой сын — святой!» Сказала ли мама эти слова искренне и с радостью, что ее сын святой, и потому не решилась подойти к нему? Или же — с сердечной болью и горечью за то, что раз сын не хочет прерывать из-за нее молитву, то, наверное, ему больше не подходит такая бедная мама? Уже больше сорока лет он спрашивал себя, что имела в виду мама, и уже больше сорока лет не находил ответа.
Синагогальные старосты били ладонями по столу для чтения Торы, чтобы стало тихо. Кантор откашлялся прежде, чем начать петь и громко читать повторение восемнадцати благословений праздничной добавочной молитвы[150]. Реб Йоэл почувствовал, как его трогают за плечо. Ему оказывают честь, давая право открыть орн-койдеш. Он открыл его и посмотрел затуманенным взором на свитки Торы в белых с золотой вышивкой чехлах. Реб Йоэл знал, что Тора не виновата. Тора повелела поститься и просить искупления грехов в десятый день месяца тишрей[151], на который выпадает Судный день. Обычай малых Судных дней в канун каждого Новомесячья происходит от поздних законоучителей, от каббалистов, которые хотели изнурять свое тело более, чем того требует «Шулхан орух». Поэтому он не должен был заставлять маму ждать у входа синагоги после того, как не видел ее два года. И наказанием ему стало то, что он больше никогда ее не увидел.
Реб Йоэл закрыл орн-койдеш и вернулся на свое место. Молящиеся с пылом произносили благословение «Кдуша», и он произносил их вместе со всеми. Вместе со всеми плакал, когда звучало «У-нсане тойкеф»[152], и падал на колени во время обряда «койрим», когда кантор пел о службе в Храме. Как вода, прибывающая и прибывающая в наводнение, пока набухшие волны не поднимаются выше деревьев и домов, — так поднималось над головами молящихся рыдание. Когда же служба дошла до пиюта о десяти убиенных царством, ослабевшие от поста евреи с пожелтевшими лицами изошли слезами, как восковые поминальные свечи. Бороды свисали безжизненно, простертые руки с изогнутыми пальцами слепо щупали воздух, ища, за что уцепиться. Реб Йоэл нес вместе со всеми тяжелое ярмо службы Судного дня. Громче всех исповедей и молитв в нем плакало его сердце — из-за обиды, нанесенной матери. Измученная, укутанная в тряпки, подавленная и униженная, она исчезла в зимней снежной мгле, потому что не хотела мешать своему сыну справлять малый Судный день.
С тех пор как умерла мать, его словно подменили. Он продолжил изучать Тору и соблюдать ее законы, но возненавидел святош и избегал фанатиков, как чумы. Тем не менее, будучи холостяком и находясь исключительно в среде изучающих Тору, он еще не так укрепился в этом, как потом, после свадьбы, когда стал раввином и столкнулся с новым поколением непокорных молодых людей. Только тогда он по-настоящему понял, что слишком частые малые Судные дни виноваты в бунте и против великого Судного дня. Тогда он стал избегать крайностей, не воздвигать один запрет на другой. Чтобы Тора не выглядела как местечко, в котором перессорились все соседи, где каждый отгораживается от других забором, каменной стеной, колющими кустами и колючей проволокой так, чтобы никто никуда не мог пройти.