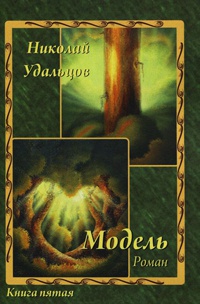Книга Андерсен - Шарль Левински
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Чужие ладони.
Иногда они в перчатках. Как будто родиться на свет – это болезнь, которой они боятся заразиться.
На работе я тоже приказывал моим людям надевать перчатки. Но для этого были практические причины. Они вызывали у допрашиваемых угрожающее и тем самым полезное для наших целей чувство, что они – не люди, а лишь объекты. Да и неприятно притрагиваться к чужой крови.
За всё время никому не бросилось в глаза, что в моей перчатке нет кисти.
Я никогда не любил, чтобы ко мне притрагивались без спросу. Побить – это ладно. Я знал, что мой отец склонен к внезапным приступам гнева, и был к этому готов. Есть вещи и похуже затрещин. Но когда кто-нибудь хотел меня обнять, похлопать по плечу, взять за локоть, это я всегда отметал. К счастью, моя мать не была склонна к нежностям.
Женщина, родившая меня на сей раз – не такая. Особенно в первые дни она, казалось, спутала меня с куклой, призванной развлекать её своей миниатюрностью. Она не оставляла меня в покое даже на пять минут. Видимо, считала меня подарком ко дню рождения. Народившимся подарком.
Чтобы не попасть под подозрение, мне приходилось исполнять их ожидания, позволять себя тискать, лапать и не подавать виду, насколько мне это противно.
Оказать сопротивления я бы всё равно не смог, для этого я был слишком слаб.
Она чувствовала моё отторжение, по крайней мере вначале, но её в этом разубедили. Люди верят тому, чему хотят верить.
У неё руки мягче, чем у него. Ну хотя бы это.
Я часто притворяюсь спящим, что нетрудно, потому что глаза у меня и так постоянно слипаются. И тогда они, особенно он, склоняются надо мной так низко, что я чувствую их дыхание. После девяти-то месяцев наконец выходишь на воздух, обонятельный аппарат настроен на самую высокую чувствительность, а они не могут придумать ничего лучше, как обдавать меня испарениями их тел.
И ведь не отгородишься. Это самое худшее. Нельзя защититься.
132
Лежишь тут, как тебя положили, а они говорят о тебе так, будто тебя здесь нет. Если кто-то приходит в гости, они тебя демонстрируют – как картину, только что купленную на аукционе. «Обратите внимание на эту деталь или на ту, полюбуйтесь мазками кисти!» В своей гордости обладания они принимают любую похвалу так, будто ею подтверждается их личное достижение. А ведь они внесли в мой организм не больше, чем любой кобель, встретивший течную сучку.
Они хотят в точности знать, что им досталось. Тебя обмеряют и взвешивают, и они обсуждают результаты, как спортсмены обсуждают итоги соревнования. «У той-то и того-то тоже родился ребёнок, но он меньше, он легче, у него меньше волос. И мы опередили ту или того на один сантиметр или на несколько граммов».
Ты трофей, больше ничего.
Мой сон, в котором меня пригвоздили к цоколю, сделав беззащитным центральным объектом выставки, был вовсе не сон. То было пророчество. Хочешь не хочешь, приходится выслушивать их комментарии, и если лицо искажается гримасой отчаяния, они комментируют и это. «Какой милый», – говорят они. «Привлекательный», – говорят они. «Крошечный гномик».
Ненавижу.
Особенно падки они на сходство, в котором старательно убеждают себя. Но мой подбородок вовсе не дядюшки Икс, а уши совсем не тётушки Игрек. Я это я. Но они этого не признают. У них есть, наконец-то, ребёнок, а когда они говорят «у нас есть», они подразумевают «мы владеем».
Как будто я объект на рынке работорговцев.
У них есть твёрдое представление о том, кто ты такой и что должен делать. У них есть книги, по которым они наводят справки, и горе тебе, если ты не придерживаешься предписанного! В первые часы я им недостаточно плакал, и они обсуждали, что же предпринять.
Было нетрудно оказать им услугу. Такой свежерождённый организм ещё ничего не может, вообще ничего, но плач в машине уже отрегулирован. Остаётся только поддаться желанию.
То, что они не стесняются говорить о тебе так, будто тебя здесь нет, имеет и полезную сторону. Они формулируют свои ожидания очень точно. Остаётся только исполнить их. Когда за мной наблюдают и я должен исходить из этого, не зная, кто и каким образом это делает; когда меня контролируют, то по мне не видно ничего необычного. Я хорошо играю свою роль.
Я маленький младенец, траляля, я маленький младенец.
133
Однажды – я зубрил латынь с Хольгером Пискером, и было уже темно, когда я отправился домой – в подземном переходе у вокзала со мной заговорила женщина. Я поначалу принял её за попрошайку, но то была шлюха, пожелавшая продать мне своё тело. Не молодая женщина и не красавица. Всё лицо в каких-то мелких рытвинах – видимо, от болезни. Жирная. Она преградила мне путь, заблокировала выход, и когда я отпрянул, не желая ничего о ней знать, она распахнула свою блузу. Показала мне товар лицом.
Через края корсета телесной расцветки вываливалась тяжёлая, рыхлая грудь. Она напомнила мне марлевый мешочек со свежим сыром, который господин Каспер в своём сводчатом подвале выудил для меня из ведра с сывороткой и который мне пришлось нести домой, держа руку на отлёте, потому что с него капало. Морщинистый коричневый сосок как ороговевшая кожа.
Омерзительно.
Когда я отталкивал женщину, её тело было мягким. Не соблазнительно мягким, как бывало иногда позднее, а кисельным. Как будто у неё и костей не было. Куча жира, зашнурованная в корсет со смутными человекообразными формами.
Я тогда бежал сломя голову. Помню, что на бегу придерживал на голове свою школьную фуражку как символ моей только что защищённой невинности.
Когда Хелене приложила меня к своей голой груди, едва только выдавила на свет из своего междуножия, то бежать у меня не было возможности. Как будто та женщина из подземного перехода схватила меня и силой прижала к себе.
«Хочешь изведать кое-что приятное?» – спросила она тогда.
Ничего более неаппетитного я и представить себе не мог, чем кормиться вот так, присосавшись к части чужого тела. К счастью, в тот первый раз моё ещё не наведённое на резкость зрение избавило меня хотя бы от вида. Позднее уже не избавляло.
Даже если бы у меня были силы сопротивляться, мой организм оказался сильнее меня. У него была своя собственная воля, свои собственные встроенные рефлексы. Ему всунули что-то в рот – и он принялся сосать. Я также мало мог противиться этому, как алкоголик может противиться питью после первого глотка.
Тогда я уговорил себя, что должен соучаствовать в этом, чтобы как можно скорее вырасти и стать сильнее. Чтобы больше не зависеть от чужих рук и от чужой груди.
На вкус то, что продуцировала Хелене, походило на жирное коровье молоко. Я и как доильщик-то никогда не любил сырое молоко. Но привыкаешь ко всему.
Почти ко всему.
134
Что можешь изменить – изменяй. Что не поддаётся изменению, то терпи.