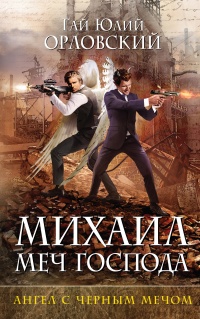Книга Королевская книга - Наталия Сова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, утром понедельника я проснулась в мире, маниакально препятствующем мне во всех начинаниях. И было ясно, что, если даже я, резко снизив уровень притязаний, попрошу подвезти меня до работы (что гораздо ближе вожделенной и недоступной стоматологии), работать будет невозможно — будут набираться неправильные номера, допускаться кошмарные опечатки, будет теряться кружка, из которой минуту назад пила кофе… Единственный способ исправить положение, который пришел мне в голову, — вернуться домой, задобрить зуб таблеткой и чуточку еще поспать, чтобы проснуться наконец там, где положено, то есть где укладывалась вчера вечером. Я покинула магазин и засеменила обратно, по пути купив в аптечном киоске упаковку болеутоляющего.
У подъезда я заметила знакомый силуэт. Мне навстречу медитативным дзенским шагом двигался по льду Санек, известный в кругах творческой интеллигенции как Ярилла. Режиссер, поэт, художник, музыкант и бывший мой одноклассник.
— Ирка! — Он заторопился, совершая конькобежные движения. — Привет! Какими судьбами! Миллион лет! Ты чего такая кислая?
— Зуб болит.
— Водка, — моментально ответил Ярилла. — Полоскать водкой. И еще внутрь для анестезии. Я только так и спасаюсь.
Санек спасался водкой много от чего: от мнимых болезней, от ревнивой жены своей Ольки, от душевных невзгод и превратностей творческой судьбы. Был он самородком, интеллигентом в первом поколении, озаренным несколькими не вполне внятными, но прогрессивными творческими идеями, которые претворял в жизнь со всей энергией, унаследованной от хватких крестьянских предков.
Ярилла еще не вышел из возраста и разряда Подающих Надежды — создавал немыслимые текстовые конструкции и руководил театром, где эти тексты разыгрывались вдохновенными студентами. Ярилла был также автором сборника индустриальной лирики и редактором самиздатовского журнала, где статьи были написаны «тем языком, которым разговаривают нормальные люди». Но понемногу становилось ясно, что самородок так и не будет огранен. Приступы мятежной гордыни регулярно сменялись у него периодами самоуничижительной депрессии. Я с ходу попыталась определить, в какой фазе этого цикла Санек находится сейчас, но видимые признаки не совсем соответствовали привычным. Это было что-то новое.
— А я с Олькой поругался. — Ярилла был истерически весел. — С вечера вот хожу, с бомжами пью у киосков, стихи им читаю. Греюсь у горящих помоек. Знаешь, там своя романтика, тебе наливают незнакомые люди, не спросив имени, — ты представляешь?
— Да уж, представляю. Что наливали-то, стеклоочиститель?
— Не важно, Ирка, все это не важно. Очиститель мне и требуется, замутнены окна сердца моего… Я пьяный, не ругайся, Ирка, ладно?
— Мне-то что ругаться, господи…
— Замерз я только немного, и деньги где-то потерялись. Может, им и отдал, полной горстью — нате, не жалко. А может, сами — все равно не жалко. Слушай, Ир, можно к тебе, а? Я где-нибудь на коврике в прихожей… погреюсь.
В темном окне медленно проявлялись в сине-сером зимнем растворе заснеженные ветки рябины, а по эту сторону стекла отогревшийся Санек; распространяя кисловатый сиротский запах, жестикулировал над нетронутой чашкой чаю. Его речь изобиловала Словами С Большой Буквы — всегдашний пафос дружески настроенного подвыпившего Ярилла, то и дело распахивающего щербатую улыбку бога солнца дель арте.
— Все-таки повезло мне, что я тебя встретил! Мы с тобой давно друг друга знаем, сразу возникает Воспонимание…
— Воспоминание, — машинально поправила я.
— Не-ет, вос-по-ни-ма-ни-е! Понимаю, потому что помню! Воспонимание — это только между друзьями детства может быть… Ты меня сейчас понимаешь? Ты понимаешь меня?
Я кивнула — понимаю. Можно подхватить, как бывало, развить мысль, раскатить телегу от вос-понимания до взаимо-поминания, но в случае с больным зубом и нетрезвым Саньком это было излишне (каждый из них был самодостаточен и на комментарии не реагировал).
— И я тебя понимаю, потому что помню. Все эти твои творческие прибамбасы… с самой школы. Попытки делать. Я давно хочу тебе сказать — ты многое умеешь, там вокал, литература, музыка. Но ты стесняешься. Стесняешься! И из-за этого… ни черта не получается. Ты извини меня, что я так говорю, но зачем ты, к едрене матери, стесняешься?
«И ты, Брут…» Я запила чаем таблетку темпалгина, со стуком поставила чашку и ответила:
— Слушай, Ярилло, ты когда-нибудь даймонов встречал?
Он сделался строгим. Обиделся.
— Я, конечно, пью… и напиваюсь, конечно. Но до зеленых чертей — ни разу. Ни ра-зу! Это ты зря так, Ира.
Пока я смеялась, он с трудом поймал оборванную нить мысли и продолжил речь в том смысле, что, если не стесняться, все получается — мы являем миру Конечный Продукт, мы засвечиваемся и вешаем на грудь мишень. И тогда возникает следующая стадия — Стадия Сопромата. Сопротивления Материи, которая диалектически противопоставлена Духу. На этой стадии из Перми надо уезжать, потому что Пермь по определению находится в Глубокой Жопе, и движения, не связанные с переработкой нефти, рубкой леса и изготовлением орудий убийства, здесь не приветствуются. Хотя нет: единственное предназначение искусства здесь — развлечение тех, кто перерабатывает нефть, рубит лес и производит орудия убийства. Сама понимаешь, с внезапной агрессивностью сказал Санек, что это должно быть за искусство. Следовал вывод, что его, Санька, Продукт — вещь в Перми совершенно ненужная.
— Я понял это вчера. Вчера только, старый идиот! Все думал можно что-нибудь сделать здесь! Сотворить… Настоящее. Жить параллельно! Но — нельзя. Не-во-змо-жно. Прикалываться — можно, но делать — нельзя.
Голубые глаза Санька приобрели пронзительный оттенок, каким ледяной ветер окрашивает небо в те прощальные дни, когда осень так напоминает весну Я вспомнила его в юности, когда представлялось, как хорош он будет лет этак через дцать: отшлифует свои умения, наберется мудрости. Предполагалось, что мутный пермский прибой будет разбиваться о него как о всесильную скалу, цвета летнего зенита, никогда не потускнеют его глаза и уж точно никогда не возникнет потребности ни от чего спасаться посредством распития в одиночку спиртных напитков.
— Нельзя делать… — Он устремил отчаянный взор в перепутанные ветки за окном, будто надеялся отыскать в них ларец на цепях, в котором упрятана смерть супостата, не позволяющего делать. — Остается уезжать. Все менять, все — воздух, кровь в венах, время. В других местах другое время, знаешь ты об этом? Погрузить себя в иные растворы. Или поедешь по-другому, как Серега. Помнишь Серегу-барда? Так вот видел я его вчера вечером в трамвае с картой… этой, схемой. Два года не виделись, и вот он едет в трамвае и держит перед собой лист ватмана. Лист ватмана, обеими руками держит, на нем схема. Космического разума.
— И что там, на схеме? — Даже зубная боль во мне замерла.
— Да бог его знает. Я как увидел, что он ко мне направляется, почти что на ходу катапультировался.