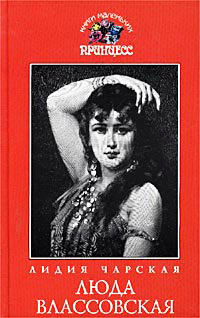Книга Вторая Нина - Лидия Чарская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Она кончила свою пылкую, горячую речь и теперь стояла, высоко держа голову, гордая, независимая, но взволнованная, как никогда.
Девочки по-прежнему тесно окружали ее. Все молчали. Прошла минута… другая… третья… И вдруг чей-то тихий, нерешительный голос произнес:
— Рамзай права. Права… Конечно…
— Да… Да… Разумеется права! Молодец, Рамзай! — восторженно подхватили остальные, тотчас позабыв о благородном негодовании, каким пылали минуту назад.
— Рамзай, твою руку! Мы были не правы! — спокойно и дружелюбно признала Марина Волховская.
И наша первая ученица энергично тряхнула руку Лидии.
Ее примеру последовали другие. Кто-то обнял Рамзай. Кто-то целовал ее стриженую головку.
Я почувствовала себя самым несчастным существом в мире. Я смутно сознавала, что поступила гадко, нехорошо, и жгучий стыд захватил мою душу. Но уйти я не могла. Будто что-то приковывало меня к месту. В эти роковые минуты я понимала, что всякий проступок влечет возмездие. И возмездие не замедлило совершиться.
— Кому я обязана разоблачением моей тайны? — поинтересовалась Рамзай, едва поутихла суматоха стремительного примирения.
Все взгляды, как по команде, обратились ко мне. Буду умирать — не забуду того взгляда, исполненного насмешки, вызова и презрения, которым наградила меня баронесса Рамзай. Взглянула — и отошла с гордым видом властительной королевы.
— Нина! Нина! Милая! Да «отделай» же ты ее, ради Бога! — шептала в ухо моя ярая сторонница Перская.
— Отвяжись! — сорвала я злость на ни в чем не повинной Миле. — Уйди ты от меня, все вы уйдите! — неожиданно накинулась я и на трех-четырех девочек, оставшихся возле меня и глядевших с жалостью и сочувствием. — Никого мне не надо, никого, никого!..
Отвернувшись от них, я выбежала из дортуара.
Весь день меня преследовали насмешливые и вызывающе-дерзкие глаза Лидии. Всюду, куда бы я ни пошла — и во время рекреаций, и во время уроков они стояли передо мной презрительным укором и мучили меня.
— Госпожа Израэл, что с вами? — недоумевал наш снисходительный институтский батюшка отец Василий, когда на уроке закона Божия, вместо того, чтобы рассказать о первом вселенском соборе, я понесла несусветную чушь о патриархе Никоне и сожжении священных книг.
— Госпоже Израэл простительно, батюшка, — послышался с первой скамьи писклявый голос Котковой, — она ведь магометанка, ей надо бы муллу с Кавказа выписать.
— Несуразное толкуете, девочка! — вступился за меня отечески добрый ко всем нам священник. — Госпожа Израэл примерно прежние уроки отвечала, и теперь я болезнью только и могу объяснить ее забывчивость! Щите с Богом, деточка, к следующему уроку вы все это хорошенько усвоите! — и священник, ласково кивнув головой, отпустил меня.
После урока мне стало еще хуже. Отношение девочек ко мне круто переменилось. Никто не заговаривал со мной, все подчеркнуто избегали меня.
Одна только Перская по-прежнему относилась ко мне с бережной заботливостью. Но это меня нисколько не радовало.
Мила Перская не была тем идеалом друга, которого жаждало мое впечатлительное сердце, и, по совести говоря, я не любила ее. Есть натуры, которые созданы исключительно для подчинения себе подобным, к их числу принадлежала и восторженная Эмилия. Она придумала как бы ореол моей исключительности и ей доставляло удовольствие во всем прислушиваться ко мне и заботливо опекать меня. И я принимала ее заботы, поскольку видела, что Миле не просто нравится, — дорога ее роль самоотверженной опекунши. Я делила с ней досуг, учила вместе с ней уроки, но душевной близости истинной дружбы не испытывала, к сожалению, никогда. Сегодня же ее заботы скорее досаждали мне.
— Оставь меня. Я дурная, отверженная, гадкая! Разве ты не видишь — весь класс отвернулся от меня! — не без горечи говорила я своей единственной стороннице.
— Ах, что мне до класса, когда у меня давно сложилось собственное мнение о тебе! — горячо возразила Перская и пылко добавила, подкрепляя свои слова крепким поцелуем, — ты такая прелесть, Нина! И я тебя так люблю!
Кое-как прожила я этот ужасный день. Вечер провела у Люды и ее седьмушек, но и словом не обмолвилась о своей ссоре с классом. Душу грызла нестерпимая тоска. Я едва дождалась звонка, призывающего к вечерней молитве, и была почти счастлива, что можно, наконец, отправиться в дортуар и юркнуть в постель.
— Знаешь, Нина, отчасти, хорошо, что все так случилось, — помогая мне заплетать косу, говорила Перская, — по крайней мере, сегодняшняя история заставит тебя забыть про безумный замысел…
— Какой замысел? — удивилась я.
— Не помнишь?.. — Мила наклонилась к моему уху, — ты собиралась сегодня караулить «выход» императора. Теперь, по крайней мере, не пойдешь.
— Кто тебе сказал это? — вспылила я. — Напротив, теперь-то я и пойду. Мне необходимо развлечение.
Действительно, мне необходимо было пережить смену впечатлений. Хотелось испытать что-нибудь самое необычайное, но такое, что разом потеснило бы в моей душе это ужасное, невыразимо тяжелое ощущение гнетущей тоски.
— Я пойду, — упрямо и решительно уведомила я Эмилию.
— Нина… милая… — плаксивым голосом затянула та.
— Оставь меня, пожалуйста! Ты надоела мне! Не хнычь! — сердито огрызалась я, укладываясь в постель.
В этот вечер мадемуазель Арно особенно долго расхаживала по дортуару, покрикивая на расшалившихся девочек и призывая к тишине. Наконец, она бросила с порога свое обычное «bonne nuit»[21]и «испарилась» к себе в комнату.
Я только и ждала этой минуты. Едва длинная костлявая фигура француженки исчезла за порогом ее «дупла», я соскочила с постели, мельком взглянула на спящую Перекую, набросила холщовую юбочку, натянула чулки и, не одев башмаков, чтобы не шуметь, выскользнула из дортуара.
Тишина царила кругом. Газовые рожки слабо освещали длинные коридоры, церковная площадка была погружена в жуткую, беспросветную тьму. Я не пошла, однако, по церковной или так называемой «парадной» лестнице, а бегом спустилась по черной, которая находилась возле нашего дортуара, и вошла в средний, классный коридор, примыкавший к залу.
Не без трепета, — не от страха, конечно, а от волнения, — открыла я высокую дверь и вошла в зал — огромное мрачноватое помещение с холодными белыми стенами, украшенными громадными царскими портретами в тяжелых раззолоченных рамах, и двухсветными окнами, словно бы нехотя пропускавшими сюда сумеречно-голубой лунный свет.
Поскольку император Павел I считался основателем нашего института, его портрет занимал особое место, будучи помещенным за деревянной оградкой-балюстрадой на некотором возвышении, куда вели высокие ступени, крытые красным сукном.