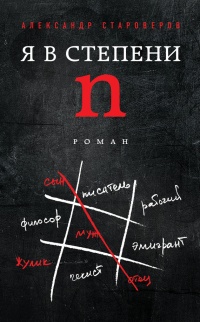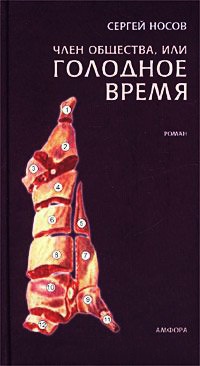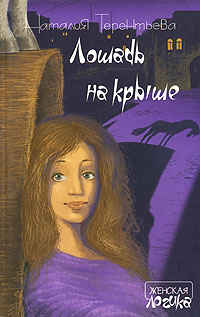Книга Томление (Sehsucht), или Смерть в Висбадене - Владислав Дорофеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обнимаю и целую тебя, родной мой. Скоро мы уже будем вместе».
«А мать моя все же дура. Впрочем, большего от нее и не требовалось. Ведь любви полна ее душа. А большего от нее и не требовалось. Удивительно. Я часто говорила с ней сквозь зубы. Но после ее решения о предсмертном одиночестве, и после этих древних писем, и после грушевидных капель чернильных размытых на страницах, я влюбилась в нее без памяти. Она ожила для меня как никогда. Ведь только по отношению к живому человеку можно испытывать любовь и ненависть. Мать – больше не пыльный орнамент моей души, а ее предначертательное содержание. И я, кажется, влюбилась в отца. Отец приобрел черты живого человека, которого можно любить и любить, и, может быть, ненавидеть. Без налета пыли временной он мне еще более симпатичен. Отец – теперь не легенда, и не фамилия, а плоть, начертанная смелыми мазками на полотне моего сердца, и высеченная резкими штрихами в камне моего сознания».
«13 июля 1996 г. Лечу из Москвы. Рядом со мной двенадцатилетняя нимфетка и цвета ваксы black man с глумливым выражением лица, время от времени он дергал волосы из ноздрей. Потом ему надоело это занятие, он принялся грызть ногти. Затем уперся глазами в миловидную бортпроводницу, наконец, заснул, почмокивая. При этом его уши трепетали, как гнилые листья секвои. (Почему, собственно, секвойи?)
В самолете было душно, ногам тесно, и от кресла пахло кислой капустой. В целом полет проходил нормально. Прилетели в аэропорт JFK. На таможне негритянки были очень нехороши собой, безвкусно одеты, аляповато накрашены, в пошлых украшениях, смешны и глупы.
Нью-Йорк встретил суетой, грязью на дорогах, пробками. Небоскребы впечатляют на фотографиях, на экране. В жизни проще и доступнее. Много людей, много бездомных, которые всюду спят – грязные и вонючие. Нью-Йорк принадлежит человечеству, немного обидно, что не тебе одному.
Вечером уже встреча в штаб-квартире крупнейшего издательства США. Вице-президент, типичный функционер, в меру туповат, в меру фальшив. Зашел странный разговор о предпринимательстве. Оказывается, в США до девяносто процентов новых предпринимателей в первый же год терпят крах. Одним словом, ни хрена ни о чем не договорились.
В Штатах инфляция не меньше нашей. Нью-йоркские квартиры, стоившие пару десятков лет назад несколько десятков тысяч долларов, сейчас стоят больше миллиона.
Нью-йоркское метро – монстр, переплетение линий, километры и километры под землей и над. Грязь, бездомные, одеяла под платформами, неприкаянность. В метро живут, спят, любят, зарабатывают, убивают.
Я устал от этой USA. Страна – как страна, говна кусок, сказала бы ты. Но не буду торопиться. Одесса сначала также не показалась, а потом увиделось нечто иное и моя впечатлительность была вознаграждена.
Среди таксистов много негров и бывших русских, советских, которые уже забыли откуда они пришли.
Недалеко от гостиницы несколько часов подряд негр играл на трубе.
Уже засыпая, вспомнил разговор с моим американским приятелем в Москве, он мне однажды сказал, мол, как можно прожить без пистолета в Америке.
Да».
«Чудовищно. Чудовищно. Чудовищной нежностью моя душа полна. Нежность не имеет знака. Нежность бесстрастна. Нежность созидает и живет. Как змея выползает из старой кожи во время линьки, я сдираю с себя свою боль и свой страх, высвобождаясь от всегдашнего чувства безотцовства и неполноценности детского одиночества. Я обрастаю нежностью, будто новой кожей. И я теперь защищена навсегда от чувства вины и страха перед обреченным детским одиночеством. Одиночества уже нет. Спасибо, мама. Давно я не говорила маме такого».
«14 июля 1996 г. Родной мой! Вчера утром я сходила с родителями в немецкую баню. Нет никакого особенного вожделения смотреть на чужого мужика или голую женщину в бане, напротив, это абсолютно нормальное состояние – совместные бани, то есть, настоящие народные бани. Естественное состояние – не стыдиться того, чего стыдиться не нужно.
А сейчас я в поезде Кельн-Париж. Вагон первого класса. Душно. Со мной в купе – это шесть сидячих мест – грубоватый американец, с жопастой и надутой, неопределенной национальности, барышней саксонского типа.
Эти двое со мной в купе оказались истинные американцы, когда им захотелось пить – они пили Coca-Cola, когда им захотелось есть – они закусывали Snickers. Она была страшна редкостно.
В вагоне прилично и тихо. Через несколько купе стандартная японская семья с обилием детей и еды. Перед нами в купе типичный господин в сером твидовом пиджаке и рубашке в полоску, стандарт – из неясных литературно-умозрительных представлений – недалек от истины. Да.
Переезд из Германии в Бельгию практически незаметен. „DB“ на встречных вагонах сменилось „B“. Первый контролер говорил по-немецки, затем появился маленький толстенький человечек с веселым выражением лица, и произнес „ticket“, потом перешел на сплошной французский, через слово – „pardon“. Он был в такой же синей форме, что и немецкий после Кельна. Круглая кепочка с двумя золотыми кантами. Мил.
Из окна поезда бельгийская жизнь похожа на немецкую. Разве что чуть больше неприбранности на земле, чуть старше и потрепаннее дома, чуть больше кирпичных зданий, и появились какие-то пустые разрушенные здания с выбитыми стеклами. Почти незримые отличия, но уже не Германия. Номера на машинах красные, в окрестностях городков скальные выходы, словно бы природа чуть жестче. Немного похоже на Ингушетию, в предгорьях Кавказа.
Почему-то вспомнились твои рассказы про кладбища вдоль дальневосточных и богом забытых дорог, где шаг в сторону – вечная мерзлота, трясина и болота, гнус и морошка, брусника осенью и сумасшедше стоическое небо над позднеосенним Охотским небом – твои любимые места.
Льеж. Мост арочный с медными фигурками, посиневшими от времени, летящие меркурии или ники. В Льеже повернули назад, градусов под пятьдесят прежнему направлению. Вновь сплошняком дома, промышленная инфраструктура, военная часть с серыми невзрачными казармами и прямыми дорожками, пустым плацем, бронетранспортером и рядами зеленых машин.
Я не поняла, когда мы из Бельгии переехали во Францию. Вновь контролеры.
Первое „la dame“.
Самая первая публика – менее демократична, нежели немецкая.
Появились дома из булыжников. Пусто, почти ни души – воскресенье, универсальное средство возвращения тишины.
Тесно населенная страна. Или страны. Я запуталась. Где еще Бельгия, где уже Франция?
Но местность, дома, люди, машины почти не менялись, сменившись зримо после Германии. Здесь все потрепаннее, нежели в Германии, впечатление, что немного старее. Церкви с французскими широкими крестами. Очень похожие были в России в эпоху средневековья, только без загогулин в вершине и по бокам.