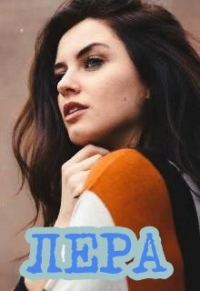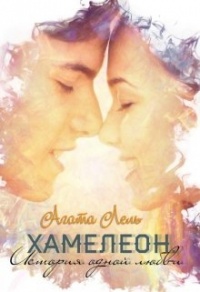Книга Станцуем, красивая? (Один день Анны Денисовны) - Алексей Тарновицкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ленечка, я должна тебя предупредить. У нас в деревне так: прошелся по улице под ручку с девушкой — женись. Так что, ради твоего же блага, лучше отцепляйся… — и еще крепче прихватила его за локоть.
— Подумаешь, — уверенно отвечал этот рыжий теленок, — не боюсь я твоей деревни. Я с косой, как Лев Толстой. Он под эту тему, знаешь, сколько деревенских девок перепортил? Заляжет, бывало, под кустом…
— Выходит, и ты так же? — хохотала она. — Я-то, бедная, беззащитная селянка, на подосиновик клюнула. А там, оказывается, сам граф Толстой и порченые девки штабелями…
И — грудью к его плечу, легонько так, краешком… — ага, споткнулся паренек, на ровном месте споткнулся. В голове метет веселая кутерьма, метель, переходящая в пургу. Идти бы так и идти, под ногу с дождем, до скончания времен. Улица смотрела на них слезящимися глазами окон, кивали из-под навесов белыми косынками сморщенные деревенские бабки, отпускали вслед соленые словечки, рассыпались мелким дробным смешком. И в самом деле, грешно такого рыжего не обсмеять: в одной руке коса, в другой японский зонтик, а на локте девка висит, и как висит: вот-вот сожрет с потрохами, и с зонтиком, и с косой.
Так, сцепившись, и подошли к базе. Пусть смотрят, плевать. В колхозе все равно ничего не скроешь, да Аньке не больно-то и хотелось скрывать. Когда душа поет и порхает, о мелочах лучше сразу забыть, чтоб не цеплялись досадными крючочками за корзину твоего воздушного шара, чтоб не мешали взлететь, оторваться от земли.
У крыльца Леня с видимым сожалением отдал ей зонтик.
— Не горюй, граф Толстой, — улыбнулась Анька. — Я его тебе потом подарю. С таким зонтом можно под кустом не прятаться — девки сами набегут, порть, не хочу.
— А мне больше и не надо, — сказал он, глядя ей в глаза. — Ко мне уже всё, что надо, набежало.
Анькино сердце прыгнуло вверх, заколотилось в горле. А ну, брысь, глупое, на место! Еще, чего доброго, выскочит наружу, покатится по лугу огненным мячиком у всех на виду… Она опустила взгляд — всему есть предел, парень, не так быстро. Тут я командую.
— Это мы еще посмотрим… — голос прозвучал с хрипотцой, выдавая то, чего пока не следовало бы выдавать. Анька откашлялась и напялила на лицо насмешливую улыбочку. — И вообще, дорогой граф, по-моему, вы забыли, что, кроме порчи девок на покосе, у вас есть другие важные дела. Например, хотя бы чуть-чуть побыть зеркалом русской революции. Так что идите, работайте. До вечера.
Вечером, посмотрев, как она вертится перед зеркалом, мстительная Машка поцокала языком:
— Ну, бабоньки, сегодня определенно что-то будет. Гляньте-ка, наша недотрога выходит на тропу войны. Надо бы посоветовать мужикам загодя снять с себя скальпы. А может, и еще чего-нибудь.
«Не знаю, как там с мужиками, но что с меня она снимет скальп — это определенно, — подумала Анька. — Я теперь у нее меченая, так просто не отделаюсь. Ну и пусть. Как-нибудь переживу».
Еще бы не пережить! Что может сравниться с ожиданием вечера, когда ты точно знаешь, что должно произойти что-то очень важное? Знаешь, что где-то рядом к этому же вечеру точно так же готовится кто-то другой и что он чувствует точно то же самое, что и ты. Вы, как два человека, которые стоят на разных концах очень длинного моста и вот-вот начнут движение навстречу друг другу. Вы просто не можете не встретиться: мост, хоть и длинен, но узок, разминуться невозможно.
Это удивительно, не правда ли? Ну, в чем ты можешь быть уверена, когда мир полон случайностей, когда каждый внешне простой шаг чреват если не несчастьем, то неожиданностью? Ни в чем, решительно ни в чем — даже в переходе из спальни на кухню. Самые надежные планы могут в любой момент пойти прахом из-за какой-нибудь глупости, самые верные друзья могут подвести — не по злому умыслу, а потому, что возникла внезапная помеха, или упал на голову кирпич, или кто-то где-то оступился, или какая-нибудь Аннушка разлила масло, а не молоко… — да мало ли что может случиться!
И только она одна не подлежит ни малейшему сомнению: ваша грядущая встреча. Она так очевидна, так неотвратима, что просто дух захватывает. Вы уже начали движение по своему мосту, и весь этот мир, полный случайностей и неожиданностей, вдруг скромно отодвинулся в сторонку, чтобы, не дай бог, не помешать. Всё вокруг словно уменьшилось, скукожившись до муравьиных размеров: люди, дома, вещи, небо и земля, звезды и космос — все это никуда не делось, но как-то резко стушевалось, почти пропало из виду. Остались только вы двое, и мост между вами, и это движение навстречу, движение, которому не может помешать никто и ничто.
И вот ты входишь туда, где вы должны увидеться, входишь и сразу ищешь его глазами. Нет, его еще нет в комнате. Но нет и опасений в твоем сердце, ведь ты точно знаешь, что он обязательно придет. В сердце закипает радость, рвется наружу лихорадочным возбуждением. Ты понимаешь это и изо всех сил стараешься сдерживать себя, и у тебя почти получается, но только почти, так что приходится выплескивать эту бьющую через край энергию на всевозможные мелочи. И ты мечешься из угла в угол, переставляя тарелки, задвигая, выдвигая и вновь задвигая стулья или вдруг принимаясь смахивать пыль, а потом проливаешь что-нибудь на пол и это радует тебя чрезвычайно, потому что нашлось наконец еще одно дело: принести тряпку и подтереть.
А люди вокруг изумленно взирают на обуявшую тебя лихорадку, на твои движения, пружинящие сдерживаемой немереной силой, на твои блестящие глаза, на твою закушенную губу, взирают и думают: и какая только муха ее укусила? Ну и пусть взирают, ведь они на самом деле далеко-далеко, в сторонке, крошечные муравьи муравьиного мира, который отодвинулся, чтобы не мешать. И вот ты бодро шваркаешь по полу своей тряпкой, и именно в этот момент всё вокруг освещается особенным светом, и, даже не поднимая головы, ты понимаешь, что это вошел он, боже мой, наконец-то.
И вы смотрите друг на друга — он, стоя у двери, ты с пола, на коленках — смотрите, не видя ничего лишнего, несущественного: ни тряпки в руке, ни нелепой позы, ни упавшей на лоб, безуспешно сдуваемой пряди — ничего, кроме струной натянутого моста и десятка последних шагов до неминуемой, неотвратимой встречи. И нет на земле такой силы, которая могла бы испортить, сломать, испачкать вашу неимоверную радость, ваше счастье, уже готовое выплеснуться в мир сверкающим громокипящим фонтаном.
Сколько таких моментов дается человеку в жизни? Один? Три? Пять? Бывает, что и вовсе ни одного не дают… Но, сколько бы ни дали, прожить их надо так, чтобы не было мучительно больно за все прочие бесполезно прожитые годы. Как непременно ввернул бы Робертино Шпрыгин, большой любитель шинели Николая Островского.
Кому-то, может, и надо это втолковывать, но только не Аньке Соболевой. Уж в тот-то прохладный сентябрьский вечер она раскрутилась на всю катушку. Отыграла по полной отпущенный ей кредит, ни от кого не таясь, не пряча взгляда, пылающего бесстыдным нетерпеливым огнем. Машка сунулась было с новыми насмешками, да заглянула мельком в глаза и — привет! — увяла. Над таким не посмеешься, не дотянешься — росту не достанет. О таком можно только мечтать, кусая по ночам невкусную подушку. Такое можно только ждать всю жизнь, под завязку набитую всем, чем только можно: деньгами, красивыми вещами, надежным положительным мужем, удачными детьми и вовремя выгулянными гормонами — всем, кроме счастья… — ждать и не дождаться. Что ж тут тогда смешного, уважаемая Минина Мария Борисовна? Ничего смешного.