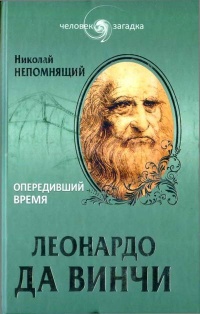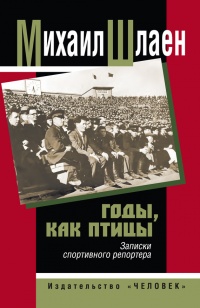Книга Булат Окуджава - Дмитрий Быков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Письмо к маме», приведенное выше, явно написано о тогдашнем его отчаянии: это в тридцать девятом он представлял ее там, «на нарах посреди Москвы». «Ниточка порвалась меж тобой и мной» – ощущение детское, сохранившееся в его душе в полной неприкосновенности. И когда в 1947 году, восемь лет спустя, он будет встречать мать на тбилисском вокзале – студентом, фронтовиком, без пяти минут женихом, – почувствует себя тем же беспомощным ребенком. Мать в поэзии и автобиографической прозе Окуджавы – символ абсолютной чистоты и всепрощения. Арест отца означал крах внешнего мира, исчезновение матери – крушение внутреннего.
Они с бабушкой и братом прожили на Арбате еще полтора года. Ашхен судили 11 июля 1939 года, она получила пять лет лагерей и столько же ссылки за контрреволюционную деятельность. Ее отправили в карагандинские лагеря. О том, как это было, – а было у всех «троцкисток» примерно одинаково, – рассказывают воспоминания ее лагерной подруги Ксении Чудиновой «Памяти невернувшихся товарищей»:
«Как и другим, мне разрешили написать открытку, обещали дать свидание. Но увидеть детей мне не довелось. Все наши сборы на этап свернули в два дня и раньше времени пригнали на запасные пути Казанского вокзала, где уже стоял эшелон из теплушек. Старший охранник скомандовал: „Немедленно освободить чемоданы!“ Куда вещи девать? Мы попытались запротестовать, но старший и слушать не стал: „Вы что, на курорт собрались?! Освобождай чемоданы, а то штыками выбросим ваше барахло“.
Некоторые из нас успели получить свидания со своими близкими, им принесли необходимые зимние вещи, а тут забирают чемоданы. Догадались, что можно использовать как мешки юбки, наволочки, рубахи, и кое-как под окрики конвоя стали распихивать свои пожитки.
Простояли мы у эшелона несколько часов, то и дело нас пересчитывали по головам, пока, наконец, не погрузили в теплушки. Здесь мы торопливо настрочили коротенькие записки, сложив их треугольниками. Я написала: «Передайте по адресу это письмо. Нас срочно отправили, и мне не удалось связаться с детьми. Спасибо Вам». В лагере узнала, что письмо не дошло.
В Сызрани нас выгрузили и повели в пересыльную тюрьму. Проходили через большую площадь с огромными лужами. Когда мы оказались в самом грязном месте, старший по конвою вдруг скомандовал: «Ложись!» Мы даже не поняли сразу эту команду, остановились и стояли на месте. «Ложись, мать-перемать!» Больше половины опустились на колени в глубокую грязь, но остальные стояли неподвижно. Ко мне подбежал конвоир и замахнулся прикладом, но другой закричал: «Не тронь ее, отвечать будешь!» – и тут же скомандовал: «Поднимайсь! Шагом марш!»
В Казахстане, куда нас привезли, я вместе с товарищами по этапу сначала оказалась на распределительном пункте Карабаз. Отсюда нас назначили в крупное хозяйство «Бурма» – большой сельскохозяйственный лагерь, сочетавший растениеводство с овцеводством, молочным хозяйством и огородничеством. Имелись здесь различные подсобные мастерские. Работало в «Бурме» больше тысячи заключенных. Меня включили в овощеводческую бригаду, состоявшую почти полностью из политзаключенных и лишь нескольких уголовников. Как и в остальных бригадах, бригадир и учетчики – из урок. Они поощряли безделье своих друзей, ставили им полную выработку за счет политических. Нам же записывали ее не полностью. Бороться с этим практически было невозможно.
Привели нас на поле с еще не убранным горохом. Он перерос, стручки, как ножи, впивались в руки. Бригадир посмотрел и сказал: «Ну, это пусть троцкисты убирают». Потом развел по делянкам и, показав мне заданный участок, сказал: «Замаливай свои троцкистские грехи». День был очень жаркий. Я работала в кофте с короткими рукавами и старалась изо всех сил. Вообще надо сказать, что политические всегда работали добросовестно. К вечеру норму я перевыполнила, но руки были в крови по локоть, изрезанные острыми стручками. Спали мы в бараке-сарае на соломе, прямо на земле.
В один из дней меня отправили на переборку картофеля в овощехранилище. Кладовщицей там оказалась коммунистка из Киева, профессор-историк. В перерыве она сварила нам немного картофеля, это показалось нам царской едой.
Спустя некоторое время меня перевели в лаготделение «Батык» и назначили так экономистом. Начальник отделения Мишин оказался отзывчивым человеком, относился к заключенным хорошо, не допускал издевательств. Это не прошло ему даром: вскоре его самого посадили.
В «Батыке» я встретилась и подружилась с Зиной Салганик, женой расстрелянного секретаря Фрунзенского райкома партии Москвы Захара Федосеева. С Зиной Салганик и Соней Зильберберг, старой большевичкой, мы сплотили небольшую группу москвичек-партработников. Ашхен Степановну Налбандян хорошо знала еще по Москве, она работала в Москомитете партии».
Сама Ашхен о заключении не написала ничего и рассказывала скупо.
Когда Булат закончил седьмой класс, Сильвия забрала его в Тбилиси. Шестилетний Виктор остался с бабушкой в Москве. Летом сорок первого они жили на даче тетки Марии, там их и застала война. В августе Мария отправила их в Тбилиси, и братья встретились снова. В следующий раз Булат вернулся на Арбат только семь лет спустя, уже после войны. В их квартире жили чужие люди, и вернуть ее не представлялось возможным. Во время одного из визитов он повстречал главную красавицу двора Нюру, жену слесаря Паши. Он помнил ее красивой, сильной, насмешливой – но узнал и в злой согбенной старухе: «Я считаю себя человеком зорким».
На записки слушателей о том, как сейчас во дворе, увековеченном им, он отвечал только одно: «Березы, которые я сажал, выросли». И добавлял: «А теперь я живу в Безбожном переулке».
ВОЙНА
1
Окуджава переехал в Тбилиси летом 1940 года и осенью пошел в 101-ю школу. Сильвия жила на улице Грибоедова, в доме 9, напротив консерватории. Год, прожитый здесь до войны, оказался в жизни Булата короткой счастливой передышкой – тут он нашел друзей, оставшихся с ним на всю жизнь, и от приблатненной романтики московского двора переместился в пространство беспрерывного праздника двора тбилисского, шумного, буйного и жаркого.
Здесь впервые оценили его литературные таланты – литературу в школе преподавала Анна Аветовна Малхаз-Тарумова, чей муж был к тому времени репрессирован. Она осталась одна с дочерью Ниарой и большую часть времени посвящала ученикам, организуя то литературный вечер, то драмкружок; дома у нее – в ветхой, как вспоминают ученики, квартире – была огромная библиотека, в том числе свежие московские журналы. Она одной из первых отметила поэтическое дарование Булата. Окуджава в Тбилиси расцвел – одноклассники вспоминают его уже не загнанным и замкнутым, как в Москве, а веселым и раскрепощенным.
Компания подобралась соответствующая. В той же школе учился Владимир Мостков, придумавший в 1937 году сбежать в Испанию; но как бежать без оружия? Решено было похитить ружья из Осоавиахима, они там лежали в стрелковом кружке, в запертом шкафу. Шкаф оказалось легко взломать, поскольку ружья были небоевые и запирались кое-как; это учебное оружие сложили на чердаке дома, где жил один из отважной четверки, но напротив этого дома, по ужасному совпадению, находилась бывшая резиденция Берии. Сам он давно пребывал в Москве, но мало ли! Тайник накрыли, а тринадцатилетних похитителей взяли. У Филиппа Тер-Микаэляна, участника несостоявшегося побега, сохранилась справка о десятидневном пребывании в тбилисской пересыльной тюрьме. Поскольку корпоративные принципы в Грузии были сильны даже при сталинизме, родители Тер-Микаэляна сумели дать взятку тбилисскому прокурору, и вся четверка была отпущена – правда, ее попытались расформировать, переведя всех в разные школы. Тер-Микаэлян остался в сорок второй, а Мосткова перевели в сто первую. Там он и познакомился с Окуджавой, а потом познакомил с ним и Филиппа: «Слушай, у нас такой интересный парень появился в соседнем классе!» Тер-Микаэлян зашел в сто первую – он вспоминал в разговоре с О. Розенблюм, что впервые увидел Окуджаву сидящим не за партой, а на парте, в позе вольной и дерзкой. Они сошлись сразу, а полгода спустя, когда началась война, в компанию был принят Зураб Казбек-Кази-ев, уехавший из Москвы в эвакуацию на родину своего отца-тифлисца. Он вспоминал, что Окуджава особо тянулся к нему – все-таки москвич; жадно расспрашивал, как изменился за год их город.