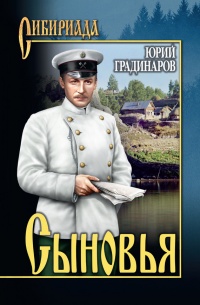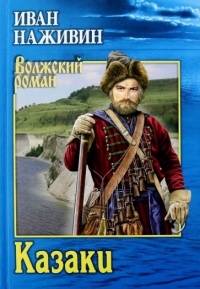Книга Грань - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ладно, пойду дрова колоть.
Огромная гора толстых березовых и сосновых чурок конусом высилась недалеко от сруба будущего склада. Нарезали их еще по осени, за зиму чурки завалило снегом, и издали казалось, что на отшибе за деревней, сама по себе, выросла гора. Степан, бросив колун на землю, потоптался у ее подножия, покурил и – крути не крути, а дело надо делать – взялся за работу. В последние дни подступило тепло, снег на чурках начал подтаивать, они отмякали, становились волглыми и кололись худо. Но Степан постепенно входил в раж и пластал их с такой силой и так торопливо, словно за ним гнались. Рукавицы сбросил, и его широкие ладони к обеду уже горели от толстого и гладкого березового топорища. Всю свою ярость, какая бурлила в нем, не находя выхода, он вкладывал в широкие и тяжкие удары колуном по чуркам. Иные из них расхлестывал с одного маху, поленья, переворачиваясь, далеко отлетали в сторону, глухо шмякались в подопревший снег. Пот густо выбрызгивал из-под шапки и щипал глаза, время от времени Степан смахивал его рукавом фуфайки, а он выбрызгивал снова, нутряной, соленый. Взлетал над головой тяжелый колун, хрякали, разваливаясь, чурки, росла на глазах, телесно белела куча поленьев, а яростный напор не иссякал, он был слишком велик и не мог выплеснуться даже на такой тяжелой работе. То спокойствие и та уверенность, с какими он ушел из коптюгинского кабинета, теперь начинали прокручиваться, пробуксовывать, словно машинные колеса в грязи. И все чаще выплывал, тревожил вопрос: а помогут ли? Не рано ли безоглядно поверил он инструктору Величко? И еще одно давило, тянуло за душу: невидный, но явственно ощутимый клин упорно врезался между ним и Лизой, расталкивая их в разные стороны, как расталкивает он крепкую, закоряженную чурку. Внешне это почти ни в чем не выражалось, но подспудно зрело и томило. И они оба это понимали. Пытаясь вышибить клин, пытаясь вернуть то прежнее состояние, когда руки лежали в руках и когда не надо было ничего объяснять, Степан решился и обо всем рассказал Лизе, надеясь, что она его поймет. Не поняла:
– Степа, брось, не связывайся, видишь, как Коптюгин тебя прижал, дрова вон послал колоть, а дальше еще хуже будет. Зачем?
Получалось, что они говорили на разных языках. Хотя нет, не так. Степан прекрасно понимал, чего хочет Лиза. Она хочет прежнего спокойствия, когда руки лежат в руках, когда рядом сопит в кроватке Васька и когда от нового, наступающего дня не ждешь никаких тревог, а твердо знаешь, что и тот, новый день, будет таким же спокойным, как и сегодняшний. Но Степан из этого круга вырывался, потому что там, за этим кругом, был Пережогин, была изуродованная тайга, был вертолетный рев и мутный, замерзающий взгляд застреленной Подруги. Слишком далеко зашло дело, и слишком по-иному стал смотреть Степан на окружающую жизнь, чтобы все это забыть.
Колун врубался в дерево, дерево глухо отзывалось и раскалывалось. Но работа не приносила облегчения, не вышибала мысли своей усталостью, наоборот, они становились еще тревожней. Степан вкалывал без перекуров, как машина. Занятый работой и своими мыслями, он даже не заметил, когда подошел Шнырь, и увидел его лишь после того, как тот заговорил:
– Ну, Берестов, даешь стране топлива. На фотокарточку пора сниматься, на Доску почета в красном уголке повесят, как самого передового и сознательного… – Шнырь захихикал. – Сколько тебе кусков отвалить пообещали?
Степан с размаху воткнул колун в чурку и перевел дух. Шнырь деловито уложил поленья рядком, уселся на них и вытащил папиросы. В глазах у него светилось нескрываемое любопытство, проскальзывало что-то новое, такое, чего Степан за ним еще ни разу не наблюдал.
– Да ты садись, Берестов, садись, перекури, а то вон как раскалился, плюнь на лоб – зашипит.
Степан взял у Шныря папироску дрожащими после напряжения пальцами, закурил и спросил:
– Ты чего пришел?
– На тебя посмотреть. – Шнырь хихикнул и через дырку в передних зубах тоненькой струйкой выпустил сизый дым. – Полюбоваться на ударника.
– Черт с тобой, любуйся, – разрешил Степан, не испытывая в этот раз к Шнырю привычного раздражения.
– Не только я хочу полюбоваться, еще и шеф мой желает знать, как ты выглядишь. Так сказать, персональное задание получено… – Шнырь вдруг перестал хихикать и щерить желтые зубы, подался к Степану, раскрыл узенькие глазки, они сразу стали серьезными и выжидающими, изменённым голосом, отрывисто и неожиданно спросил: – Каешься уже, извиняться пойдешь?
И замер, ожидая ответа.
Степан затоптал докуренную папиросу, сплюнул себе под ноги и поднял взгляд на Шныря. Тот, подавшись вперед, сидел по-прежнему, не шевелясь, даже не моргал.
– Слушай, Шнырь, ты ему скажи и себе на носу заруби – кланяться я не пойду. На Пережогина тоже управа найдется. Понял? Вот так и передай.
Шнырь обмяк и отодвинулся от Степана, торопливо полез за новой папиросой. Долго прикуривал, отбрасывая незагорающиеся спички, вдруг кинул папиросу вместе с коробком на снег, вскочил и закричал:
– Слушай, Берестов, у тебя в голове не заклинило? А? Он же сожрет тебя, жевать не станет! И так вибрирует – какой-то мужичонка пинка наладил, а тут еще…
– Шнырь! Я не какой-то мужичонка, не шестерка и не ложкомойник. Понял?! Это ты все позабыл, пока на нарах валялся, знаешь только одно – пятки лизать. А я никому никогда не лизал! Понял?!
Шнырь сник и сгорбился. Как забитая собака сразу поджимает хвост и приседает, когда на нее замахиваются. Долго и молча топтался на одном месте, порывался пойти и останавливался. Хотел что-то сказать, что рвалось у него изнутри, но так и не решился.
Степан поставил на попа новую чурку и взял в руки колун.
На дрова ушла целая неделя. За эту неделю Коптюгин не на шутку взял его в крутой оборот. По-прежнему улыбаясь при встречах, похлопывая по плечу и рассказывая бесконечные байки, он между тем лишил Степана премии, объясняя это так: ты, Берестов, еще молодой, еще заработаешь, есть мужики постарше. И продолжал улыбаться. Степан не успел закончить с дровами, а уже последовал приказ – достраивать вместе с другими мужиками склад, а там маячила навигация, разгрузка барж, и фамилия Берестов стояла в списке грузчиков первой. Но все это было мелочовкой по сравнению с тем, что сообщил вчера Коптюгин, завернув после обеда к складу. Сначала он остановился неподалеку, понаблюдал, как пластается Степан с чурками, потом подошел поближе и весело поприветствовал:
– Бог в помощь, Берестов!
Степан угрюмо кивнул и опустил колун. Коптюгин, словно и не заметил холодного кивка, удобно расположился на чурке, широко расставив толстые короткие ноги в собачьих унтах, на круглые колени, туго обтянутые брюками, положил пухлые ладони с растопыренными пальцами-обрубышами и засмеялся:
– Я, знаешь, Берестов, шел тут, историю одну вспомнил занятную. Дай, думаю, зайду к тебе, расскажу. У нас в райцентре Тютюник жил, чудик, вертанутый немного. Так он все жалобы писал, на всех подряд. А жена у него в магазине работала. Приносит она как-то домой сапоги резиновые, в магазине за ними очередь была, ну, она пару себе оставила. И что ты думаешь? Садится Тютюник и рисует жалобу: моя жена взяла из-под прилавка сапоги, прошу осудить ее недостойный поступок. Вот как мужик ошалел!